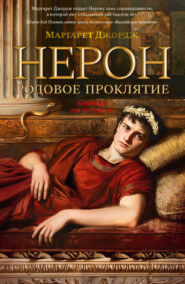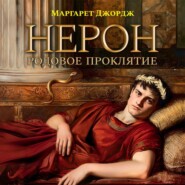По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Елизавета I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре ристалище наполнили печальные звуки похоронной музыки, и на арене показалась погребальная процессия, возглавляемая мрачной фигурой Времени, которую тащила пара вороных лошадей, украшенных развевающимся на ветру черным плюмажем. В похоронной карете восседал рыцарь в траурном облачении. Голова его была низко склонена, поза выражала раскаяние.
Карета остановилась. Кающийся рыцарь вышел из нее и, подойдя к галерее, остановился перед нами. Это был граф Эссекс. Он не стал поднимать на меня глаза, но ударил себя в грудь и с криком: «Простите мне это прегрешение!» – бухнулся на колени.
Я продержала его в таком положении долгое время, прежде чем приказала подняться.
Я так и не простила его за тайный скоропалительный брак. Мое разочарование в нем было тем сильнее, что он даже не извинился и не попытался приблизиться ко мне снова. А теперь прибегнул к такому показному публичному способу продемонстрировать раскаяние, который неминуемо должен был привлечь к себе всеобщее внимание и вызвать восхищение. Без этого он не мог.
Я не сделала ему знака подняться по лестнице на галерею и обратиться ко мне. Он долго стоял в ожидании. Казалось, все зрители затаили дыхание. Послеполуденное солнце вызолотило его рыжеватые волосы, рассыпавшиеся по плечам, когда он стащил с головы шлем с выгравированным родовым гербом. В сковывающих его движения латах он казался неуклюжим.
– Можете начинать схватку, – бросила я.
Его товарищ сэр Фулк Гревилл выбрался из похоронной кареты и жестом велел слугам привести жеребцов.
Оба быстро вскочили в седла и стремительно понеслись друг на друга к барьеру. Гревилл даже бровью не повел, когда Эссекс одним ударом вышиб его из седла и сломал его копье. Он откатился в сторону, поднялся на ноги и, поклонившись в нашу сторону, похромал к выходу с арены. Эссекс тоже ретировался.
– Этот мальчишка дерзок до неприличия, – сказала Хелена, склонившись ко мне из своего кресла (даже спустя двадцать пять лет, прожитых в Англии, в ее речи явственно слышался шведский акцент; я находила его очаровательным). – Его нужно отшлепать.
– Но кто мог бы это сделать? – заметила Марджори. – Его мать? Так ее саму не помешало бы отшлепать.
– Его следует наказать, – не сдавалась Хелена.
Но я и так уже наказала его, отослав прочь от двора. Это лишь подстегнуло его требовательность.
– Он просто игрушка, ваше величество, – подал голос по другую сторону Роберт Сесил. – Не обращайте на него внимания. Он годится только на то, чтобы наряжаться да изображать из себя рыцаря в инсценированных турнирах.
Я прекрасно знала, что два Роберта, Сесил и Эссекс, откровенно друг друга недолюбливают. В детстве они некоторое время жили под одной крышей, поскольку Эссекс был воспитанником Бёрли. Но высокий, худощавый и аристократичный Эссекс не имел ничего общего с низкорослым горбатым книгочеем Сесилом. С возрастом их взаимное безразличие переросло в соперничество. У Эссекса не укладывалось в голове, что я могу ценить таланты Сесила выше, нежели его собственные.
Пожав плечами, я вскинула усыпанный драгоценными камнями веер. Схватки между тем продолжались. После поединка Эссекса с Гревиллом их было еще девять, а всего тринадцать. Когда последняя пара преломила копья, завершая турнир, солнце уже садилось.
И тут вдруг на арену выкатилась еще одна богато украшенная карета. Из-за ограждений заиграла оглушительная музыка, и карета, подъехав к нам, остановилась. Она была задрапирована белой тафтой, а украшавшая ее вывеска утверждала, что это священный храм Девственных Весталок. Она покоилась на колоннах, раскрашенных под порфир, а внутри мерцали светильники. Из нее выпорхнули три девушки в невесомых струящихся одеяниях и посвятили себя мне как весталки, после чего пропели:
– Служению вам, главной девственной весталке Запада, мы клянемся посвятить свои жизни.
Затем из храма выступил сэр Генри Ли и, вытащив из-за одной из колонн листок со стихотворением, принялся его зачитывать. Стихотворение прославляло меня как могущественную императрицу, чьи владения теперь простирались до Нового Света.
– Она передвинула один из Геркулесовых столбов! – закричал Ли. – А когда покинет эту землю, то вознесется на небеса, где ее ждет Божественный венец!
Знай я заранее, что он задумал, запретила бы все это. Теперь же я была вынуждена терпеть, прекрасно понимая, что люди посчитают, будто все устроено по моему приказу.
После, разумеется, состоялось собрание, на котором на всеобщее обозрение выставили щиты, прежде чем торжественно повесить их в павильоне на берегу реки рядом со щитами с предыдущих турниров. Ценой участия, если можно так выразиться, был фанерный щит от каждого рыцаря, сделанный специально для турнира. Щиты эти были украшены самыми разнообразными росписями на тему рыцарства: были там зачарованные рыцари, одинокие рыцари, отверженные рыцари, странствующие рыцари и безвестные рыцари. Иногда в одном щите сочеталось сразу два мотива, к примеру отверженные безвестные рыцари и так далее. Были там также дикари, отшельники и обитатели Олимпа. На турнир можно было явиться кем угодно.
17
Участники турнира не пожелали выйти из образа и в Длинной галерее, где проходило собрание, так что вокруг меня толпились Шарлемани, Робин Гуды и короли Артуры. Мне нравилось расхаживать между ними, воображая, что я каким-то чудом перенеслась в иное время и место. В полях и на берегу реки пылали костры, явственно видимые из окон галереи, – пламенеющие ожерелья радости. Всего два года тому назад сигнальные костры, вспыхнувшие по всей стране, возвестили о появлении вблизи наших берегов армады, а теперь воспоминания о той победе прибавились к сегодняшним празднествам.
В холмах, на сигнальных станциях, ждали своего часа свежие запасы хвороста и дров, готовые вновь запылать, если – когда – испанцы вернутся, согласно их клятве.
Но сегодня, сегодня, как в моем дворце, так и за его пределами, костры означали всего лишь безвредную игру. В середине ноября бывало тепло – как в тот день, когда я стала королевой, – а бывало промозгло, как сейчас. Я наслаждалась жаром разведенных в галерее костров, радуясь, что не нужно никуда идти.
Галерея была настолько длинной, что музыкантов пришлось посадить в обоих концах. В западном конце лютнисты и арфисты наигрывали нежные мелодии и пели жалобные куплеты; в восточном же флейтисты, барабанщики и трубачи играли задорную танцевальную музыку. В конце вечера к ним должен был присоединиться волынщик, чтобы завершение получилось запоминающимся.
В отличие от участников турнира, я переоделась и теперь была в торжественном облачении, как и подобало в этот важный национальный праздник. Круглый плоеный воротник был такого громадного размера, так жестко накрахмален и так топорщился во все стороны, что я едва могла пошевелить подбородком, а платье так широко раскинулось на каркасе, что мимо людей мне приходилось протискиваться боком. Я выбрала мой самый высокий и самый рыжий парик с буклями, забранными наверх и усыпанными драгоценными камнями. Лиф украшали разнообразные подвески с эмблемами, чтобы доставить удовольствие некоторым моим придворным. Среди них была копия перчатки Камберленда; подвеска в виде шиповника, подарок Бёрли; нити белого жемчуга, которые завещал мне Лестер, а в ушах сверкали изумруды, привезенные Дрейком из одного из заморских походов. Я являла собой подлинное олицетворение материальных воспоминаний.
Молодежь танцевала в одном конце зала, остальные грелись перед кирпичными каминами. Бёрли, несмотря на подагру, не стал садиться. Подобного рода собрания были для него испытанием, но он упорно отказывался поддаваться недугам. Его сын Роберт находился рядом, готовый при необходимости прийти отцу на помощь. Они о чем-то вполголоса переговаривались, склонив голову друг к другу, однако при виде меня умолкли.
– Еще одна славная годовщина, – сказал Бёрли. – Я счастлив, что мне довелось быть свидетелем того судьбоносного дня.
– Назначая вас государственным секретарем, я сказала, что вижу в вас человека, способного говорить мне правду без оглядки на слова, которые мне хотелось бы услышать, – вспомнила я. – И эту задачу вы, без сомнения, выполнили.
– Не без душевных метаний, ваше величество, – отозвался он.
– Говорить правду редко бывает приятно, Уильям, – сказала я. – Только храбрецы отваживаются на это. Так что вы по праву можете считать себя самым отважным человеком в королевстве.
Мимо яркой стайкой порхнули нарядные девушки, охваченные возбуждением момента, вечного момента юности. Лица меняются, дамы перемещаются с паркета в кресла, чтобы потом навеки уступить место другим. Их немедленно окружили молодые люди, сыновья придворных и чиновников. Некоторых я не узнала – это я-то, которая гордилась тем, что знаю всех. Что это за светловолосый молодой человек? А вон тот, невысокий, с широкой улыбкой? Кого они напоминают? Кто их матери и отцы?
Одна из девушек, чьи имена я могла назвать, некая Элизабет Кавендиш, дочь мелкого придворного, отражала натиск светловолосого молодого человека – не слишком, впрочем, упорно. Он казался смутно знакомым, но понять, кого же он мне напоминает, я так и не смогла. Она между тем повернулась к нему спиной, и он, ухватив ее за рукав, развернул к себе лицом, положил ладонь ей на затылок и насильно поцеловал.
– Сэр! – возмутилась я.
Он выглянул из-за головы Элизабет и при виде меня распахнул глаза. Затем поспешно отпустил девушку и поклонился.
– Подите-ка сюда! – приказала я.
– Да-да, ваше величество.
Он на трясущихся ногах подошел ко мне и опустился в таком глубоком поклоне, что чуть было не коснулся лбом пола.
– Встаньте, дерзкое создание, – велела я.
Он распрямился, но в глаза мне смотреть по-прежнему избегал.
– Как вас зовут? – осведомилась я. – У нас при дворе никому не позволено безнаказанно пятнать репутацию дамы, какого бы возраста она ни была! Здесь вам не Франция!
– Да, ваше величество. Нет, ваше величество. Мое имя Роберт Дадли.
Роберт Дадли! Какое жестокое совпадение. Но нет – как такое возможно? Или он насмехается надо мной?
– Подобные шутки нам не по вкусу, – произнесла я. – Отвечайте нам правду.
– Ваше величество, клянусь вам, это мое имя.
Он и впрямь похож, или мне почудилось? Светлые волосы сбили меня с толку. Глаза, манера держаться – все это было мне знакомо.
– Вы сын Дуглас Шеффилд?
– Да, – отвечал молодой человек.
Внебрачный сын Лестера, рожденный от его связи с замужней Дуглас Шеффилд! Да простит меня Бог, но меня охватила неописуемая радость. Он был единственным живым потомком Лестера и, следовательно, как его сын, пусть и незаконнорожденный, по совершеннолетии должен был унаследовать все имущество Дадли. А поскольку титул Лестера перешел к роду его брата Амброуза, это означало, что Летиция останется с носом!
Карета остановилась. Кающийся рыцарь вышел из нее и, подойдя к галерее, остановился перед нами. Это был граф Эссекс. Он не стал поднимать на меня глаза, но ударил себя в грудь и с криком: «Простите мне это прегрешение!» – бухнулся на колени.
Я продержала его в таком положении долгое время, прежде чем приказала подняться.
Я так и не простила его за тайный скоропалительный брак. Мое разочарование в нем было тем сильнее, что он даже не извинился и не попытался приблизиться ко мне снова. А теперь прибегнул к такому показному публичному способу продемонстрировать раскаяние, который неминуемо должен был привлечь к себе всеобщее внимание и вызвать восхищение. Без этого он не мог.
Я не сделала ему знака подняться по лестнице на галерею и обратиться ко мне. Он долго стоял в ожидании. Казалось, все зрители затаили дыхание. Послеполуденное солнце вызолотило его рыжеватые волосы, рассыпавшиеся по плечам, когда он стащил с головы шлем с выгравированным родовым гербом. В сковывающих его движения латах он казался неуклюжим.
– Можете начинать схватку, – бросила я.
Его товарищ сэр Фулк Гревилл выбрался из похоронной кареты и жестом велел слугам привести жеребцов.
Оба быстро вскочили в седла и стремительно понеслись друг на друга к барьеру. Гревилл даже бровью не повел, когда Эссекс одним ударом вышиб его из седла и сломал его копье. Он откатился в сторону, поднялся на ноги и, поклонившись в нашу сторону, похромал к выходу с арены. Эссекс тоже ретировался.
– Этот мальчишка дерзок до неприличия, – сказала Хелена, склонившись ко мне из своего кресла (даже спустя двадцать пять лет, прожитых в Англии, в ее речи явственно слышался шведский акцент; я находила его очаровательным). – Его нужно отшлепать.
– Но кто мог бы это сделать? – заметила Марджори. – Его мать? Так ее саму не помешало бы отшлепать.
– Его следует наказать, – не сдавалась Хелена.
Но я и так уже наказала его, отослав прочь от двора. Это лишь подстегнуло его требовательность.
– Он просто игрушка, ваше величество, – подал голос по другую сторону Роберт Сесил. – Не обращайте на него внимания. Он годится только на то, чтобы наряжаться да изображать из себя рыцаря в инсценированных турнирах.
Я прекрасно знала, что два Роберта, Сесил и Эссекс, откровенно друг друга недолюбливают. В детстве они некоторое время жили под одной крышей, поскольку Эссекс был воспитанником Бёрли. Но высокий, худощавый и аристократичный Эссекс не имел ничего общего с низкорослым горбатым книгочеем Сесилом. С возрастом их взаимное безразличие переросло в соперничество. У Эссекса не укладывалось в голове, что я могу ценить таланты Сесила выше, нежели его собственные.
Пожав плечами, я вскинула усыпанный драгоценными камнями веер. Схватки между тем продолжались. После поединка Эссекса с Гревиллом их было еще девять, а всего тринадцать. Когда последняя пара преломила копья, завершая турнир, солнце уже садилось.
И тут вдруг на арену выкатилась еще одна богато украшенная карета. Из-за ограждений заиграла оглушительная музыка, и карета, подъехав к нам, остановилась. Она была задрапирована белой тафтой, а украшавшая ее вывеска утверждала, что это священный храм Девственных Весталок. Она покоилась на колоннах, раскрашенных под порфир, а внутри мерцали светильники. Из нее выпорхнули три девушки в невесомых струящихся одеяниях и посвятили себя мне как весталки, после чего пропели:
– Служению вам, главной девственной весталке Запада, мы клянемся посвятить свои жизни.
Затем из храма выступил сэр Генри Ли и, вытащив из-за одной из колонн листок со стихотворением, принялся его зачитывать. Стихотворение прославляло меня как могущественную императрицу, чьи владения теперь простирались до Нового Света.
– Она передвинула один из Геркулесовых столбов! – закричал Ли. – А когда покинет эту землю, то вознесется на небеса, где ее ждет Божественный венец!
Знай я заранее, что он задумал, запретила бы все это. Теперь же я была вынуждена терпеть, прекрасно понимая, что люди посчитают, будто все устроено по моему приказу.
После, разумеется, состоялось собрание, на котором на всеобщее обозрение выставили щиты, прежде чем торжественно повесить их в павильоне на берегу реки рядом со щитами с предыдущих турниров. Ценой участия, если можно так выразиться, был фанерный щит от каждого рыцаря, сделанный специально для турнира. Щиты эти были украшены самыми разнообразными росписями на тему рыцарства: были там зачарованные рыцари, одинокие рыцари, отверженные рыцари, странствующие рыцари и безвестные рыцари. Иногда в одном щите сочеталось сразу два мотива, к примеру отверженные безвестные рыцари и так далее. Были там также дикари, отшельники и обитатели Олимпа. На турнир можно было явиться кем угодно.
17
Участники турнира не пожелали выйти из образа и в Длинной галерее, где проходило собрание, так что вокруг меня толпились Шарлемани, Робин Гуды и короли Артуры. Мне нравилось расхаживать между ними, воображая, что я каким-то чудом перенеслась в иное время и место. В полях и на берегу реки пылали костры, явственно видимые из окон галереи, – пламенеющие ожерелья радости. Всего два года тому назад сигнальные костры, вспыхнувшие по всей стране, возвестили о появлении вблизи наших берегов армады, а теперь воспоминания о той победе прибавились к сегодняшним празднествам.
В холмах, на сигнальных станциях, ждали своего часа свежие запасы хвороста и дров, готовые вновь запылать, если – когда – испанцы вернутся, согласно их клятве.
Но сегодня, сегодня, как в моем дворце, так и за его пределами, костры означали всего лишь безвредную игру. В середине ноября бывало тепло – как в тот день, когда я стала королевой, – а бывало промозгло, как сейчас. Я наслаждалась жаром разведенных в галерее костров, радуясь, что не нужно никуда идти.
Галерея была настолько длинной, что музыкантов пришлось посадить в обоих концах. В западном конце лютнисты и арфисты наигрывали нежные мелодии и пели жалобные куплеты; в восточном же флейтисты, барабанщики и трубачи играли задорную танцевальную музыку. В конце вечера к ним должен был присоединиться волынщик, чтобы завершение получилось запоминающимся.
В отличие от участников турнира, я переоделась и теперь была в торжественном облачении, как и подобало в этот важный национальный праздник. Круглый плоеный воротник был такого громадного размера, так жестко накрахмален и так топорщился во все стороны, что я едва могла пошевелить подбородком, а платье так широко раскинулось на каркасе, что мимо людей мне приходилось протискиваться боком. Я выбрала мой самый высокий и самый рыжий парик с буклями, забранными наверх и усыпанными драгоценными камнями. Лиф украшали разнообразные подвески с эмблемами, чтобы доставить удовольствие некоторым моим придворным. Среди них была копия перчатки Камберленда; подвеска в виде шиповника, подарок Бёрли; нити белого жемчуга, которые завещал мне Лестер, а в ушах сверкали изумруды, привезенные Дрейком из одного из заморских походов. Я являла собой подлинное олицетворение материальных воспоминаний.
Молодежь танцевала в одном конце зала, остальные грелись перед кирпичными каминами. Бёрли, несмотря на подагру, не стал садиться. Подобного рода собрания были для него испытанием, но он упорно отказывался поддаваться недугам. Его сын Роберт находился рядом, готовый при необходимости прийти отцу на помощь. Они о чем-то вполголоса переговаривались, склонив голову друг к другу, однако при виде меня умолкли.
– Еще одна славная годовщина, – сказал Бёрли. – Я счастлив, что мне довелось быть свидетелем того судьбоносного дня.
– Назначая вас государственным секретарем, я сказала, что вижу в вас человека, способного говорить мне правду без оглядки на слова, которые мне хотелось бы услышать, – вспомнила я. – И эту задачу вы, без сомнения, выполнили.
– Не без душевных метаний, ваше величество, – отозвался он.
– Говорить правду редко бывает приятно, Уильям, – сказала я. – Только храбрецы отваживаются на это. Так что вы по праву можете считать себя самым отважным человеком в королевстве.
Мимо яркой стайкой порхнули нарядные девушки, охваченные возбуждением момента, вечного момента юности. Лица меняются, дамы перемещаются с паркета в кресла, чтобы потом навеки уступить место другим. Их немедленно окружили молодые люди, сыновья придворных и чиновников. Некоторых я не узнала – это я-то, которая гордилась тем, что знаю всех. Что это за светловолосый молодой человек? А вон тот, невысокий, с широкой улыбкой? Кого они напоминают? Кто их матери и отцы?
Одна из девушек, чьи имена я могла назвать, некая Элизабет Кавендиш, дочь мелкого придворного, отражала натиск светловолосого молодого человека – не слишком, впрочем, упорно. Он казался смутно знакомым, но понять, кого же он мне напоминает, я так и не смогла. Она между тем повернулась к нему спиной, и он, ухватив ее за рукав, развернул к себе лицом, положил ладонь ей на затылок и насильно поцеловал.
– Сэр! – возмутилась я.
Он выглянул из-за головы Элизабет и при виде меня распахнул глаза. Затем поспешно отпустил девушку и поклонился.
– Подите-ка сюда! – приказала я.
– Да-да, ваше величество.
Он на трясущихся ногах подошел ко мне и опустился в таком глубоком поклоне, что чуть было не коснулся лбом пола.
– Встаньте, дерзкое создание, – велела я.
Он распрямился, но в глаза мне смотреть по-прежнему избегал.
– Как вас зовут? – осведомилась я. – У нас при дворе никому не позволено безнаказанно пятнать репутацию дамы, какого бы возраста она ни была! Здесь вам не Франция!
– Да, ваше величество. Нет, ваше величество. Мое имя Роберт Дадли.
Роберт Дадли! Какое жестокое совпадение. Но нет – как такое возможно? Или он насмехается надо мной?
– Подобные шутки нам не по вкусу, – произнесла я. – Отвечайте нам правду.
– Ваше величество, клянусь вам, это мое имя.
Он и впрямь похож, или мне почудилось? Светлые волосы сбили меня с толку. Глаза, манера держаться – все это было мне знакомо.
– Вы сын Дуглас Шеффилд?
– Да, – отвечал молодой человек.
Внебрачный сын Лестера, рожденный от его связи с замужней Дуглас Шеффилд! Да простит меня Бог, но меня охватила неописуемая радость. Он был единственным живым потомком Лестера и, следовательно, как его сын, пусть и незаконнорожденный, по совершеннолетии должен был унаследовать все имущество Дадли. А поскольку титул Лестера перешел к роду его брата Амброуза, это означало, что Летиция останется с носом!