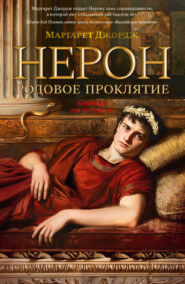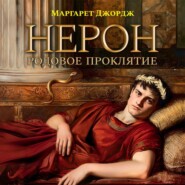По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Елизавета I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алансон… Когда я шла по галерее в зал для аудиенций, на меня внезапно спикировали призраки прошлого, умоляя вернуть упущенные возможности. Когда-то мы с Алансоном стояли здесь. Я поцеловала его и при свидетелях надела на его палец кольцо, объявив, что согласна выйти за него замуж. Официальная помолвка. И в самом деле, чин нашего бракосочетания уже был утвержден как французским посольством, так и моими прелатами. Королева-девственница чуть было не стала женой.
Я замедлила шаг и посмотрела вниз. Деревянная балюстрада была та же самая, из темного дуба, украшенная затейливой резьбой. Но обращенные к нам лица собравшихся, которые лучились радостью в час объявления нашей помолвки, исчезли, как и Алансон исчез при свете дня. Все было давным-давно кончено. Тогда доктора сказали мне, что у меня есть еще шесть лет, чтобы успеть стать матерью. Теперь это окошко захлопнулось. Если бы я вышла за него тогда, у меня сейчас было бы шестеро детей? Трое? Один ребенок? И меня не терзало бы беспокойство о том, кто станет моим преемником.
Я поспешила оставить это место с его призраками позади.
Аудиенции были скучными, обычные просьбы выделить деньги (а бывают ли вообще такие, которые в конечном итоге не сводятся к тому?). Французские протестанты хотели, чтобы мы поддержали деньгами и оружием Генриха IV Наваррского в его борьбе за корону; военные советники хотели больше кораблей, вооружений и финансирования огнестрельного оружия, которое должно было заменить изжившие себя длинные луки.
– Во времена Генриха Пятого они были хороши, но сейчас безнадежно устарели, – без обиняков заявили они мне.
– Аркебузы тяжелые и не отличаются большой точностью, – напомнила я. – Для них понадобятся расходные припасы, порох и дробь, требующие к тому же деликатного обращения.
Порох, стоило ему отсыреть даже самую малость, давал осечку, оставляя стрелка беззащитным.
– У луков и стрел тоже есть недостатки, – заметил один из них. – Нужны жилы для тетивы, перья для стрел…
– Смерть Господня! Думаете, я этого не знаю? Думаете, я никогда не держала в руках лука со стрелами? Разумеется, у них есть уязвимые места, но они обходятся дешевле, чем уязвимые места аркебуз.
Меня называли скаредной и прижимистой, но я не выбирала такой стать. Нет, Богом клянусь, будь наша страна богатой, у нас было бы по кораблю на гражданина и по сияющему доспеху на каждого солдата! Но мы, увы, были небогаты и потому вынуждены экономить буквально на всем. И у нас, надо сказать, несмотря на все это, неплохо получалось.
Когда с аудиенциями было покончено, я вздохнула с облегчением. Всего этого хватило бы, чтобы испортить настроение на весь день. Однако не успела я выйти из зала, как гонец вручил мне записку, что Уолсингем совсем плох.
Надо было ехать к нему. Весь март он таскался на заседания совета вопреки предписаниям докторов.
– Меня все равно ничто уже не спасет, – говорил он, – тогда почему бы мне не делать свое дело до самого конца?
Но вдруг это приблизило его конец?
Я переоделась в самое простое свое платье и немедленно отплыла на королевской барке в направлении Барн-Элмса, где он жил в излучине Темзы чуть выше по течению от Лондона. Плыть туда из Уайтхолла было не так долго, так что я добралась под вечер.
Мое прибытие вызвало переполох. Я отмахнулась от церемоний и отмела все возражения.
«Самочувствие не позволяет ему вас принять».
«Он не хочет, чтобы вы видели его в таком состоянии».
«Вы не должны подвергать себя опасности заразиться недугом, которым он страдает».
– Я здесь, чтобы навестить моего старого друга, и готова кормить его с рук, если в том будет нужда, – объявила я.
В доме было совсем темно; лучи заходящего солнца практически не проникали в окна. Большая их часть смотрела на восток, на реку. В нос мне ударил запах тяжелой болезни, который ни с чем невозможно перепутать. Он стал еще сильнее, когда я поднялась по лестнице в его спальню.
Навстречу мне вышла его дочь Фрэнсис.
– Ваше величество, лучше вам туда не заходить, – сказала она. – Отец совсем плох.
– Разве не должны те, кому он дорог, быть подле него? – отвечала я. – Когда мы более всего в них нуждаемся?
Вид у нее сделался удивленный, как будто она ожидала, что я испугаюсь неприглядности болезни и немощи.
– Сейчас, – признала она, открывая передо мной дверь.
Внутри большим пятном белела постель. Одно из окон все-таки смотрело на запад, и сквозь него лился розоватый закатный свет. Уолсингем лежал неподвижно, еле различимый под грудой одеял. Он даже не проснулся при моем приближении.
Даже в этом розоватом свете лицо его пугало болезненной желтизной, а все черты как-то усохли и заострились, словно болезнь обглодала его до костей. С последнего заседания совета он чудовищно сдал. Недуг был стремительным и безжалостным.
– Фрэнсис, – прошептала я, отыскав среди одеял его руку и обхватив ее своими, – как вы себя чувствуете?
Дурацкий вопрос. Что он мог мне ответить? Я задала его, лишь чтобы привлечь к себе внимание.
– Неважно, – простонал он. – Скоро они явятся за мной.
Ангелы?
– Да, чтобы вознести вас на небеса, которые вы заслужили.
– Их никто не заслуживает, – прохрипел он.
Истый протестант до последнего вздоха.
– Фрэнсис, – сказала я, – вы оставляете после себя зияющую пустоту. Никто не сможет ее заполнить. Но я благодарю Господа за то, что вы были рядом со мной все эти годы. Вы не раз спасали меня и корону.
Ох, что же я буду делать без него, без его бдительного ока и его гения?
– Берегите ее хорошенько. Мое место займут другие. И не доверяйте французам. Эх, как бы я хотел сам дать им бой! – Он слабо кашлянул. – Но я не могу сомневаться в мудрости Господа, который пожелал призвать меня именно теперь.
И опять – истый протестант. А вот я сомневалась; я только и делала, что сомневалась.
– Вот, попробуйте выпить бульона.
У постели стояла еще теплая миска c ложкой. Я попыталась влить ему в рот немного бульона, но жидкость не проходила сквозь судорожно стиснутые зубы. Я поняла, что час его уже совсем близок.
«Когда человек перестает есть, это верный признак, – как-то раз сказал мне один врач. – Все начинает отказывать, и ему не нужна больше земная еда».
Не стану плакать. Не в его присутствии. От этого умирающим только тяжелее. Это мне сказал другой мудрый человек.
Я устроилась подле него. Я готова была ждать, ждать вместе с ним. Фрэнсис проскользнула в комнату и заняла место с противоположной стороны постели. Мы с ней были рядом с ним, как церковные свечи у алтаря.
Уолсингем верой и правдой служил мне двадцать лет – и во времена сватовства Алансона, и на протяжении всего мучительного пути Марии Шотландской, от роскошного заключения до эшафота, где она оказалась благодаря искусно расставленной Уолсингемом ловушке; и в дни, когда над нашей страной нависла смертельная угроза вторжения армады. Уильям Сесил, лорд Бёрли, служил мне дольше, но Уолсингем всегда оберегал меня и стоял на страже королевства. Как мы все теперь без него будем?
«Это испытание, – подумала я устало. – Очередное испытание на прочность. Сколько их уже было».
Фрэнсис что-то писала в книжечке. В тишине я слышала, как скрипит по бумаге ее перо. Что настолько важное ей понадобилось записать в такой миг? Если это касалось смерти ее отца, сейчас это было неуважительно и не к месту. Если же что-то другое, менее значительное, то оскорбительно. Когда она вышла из комнаты, чтобы приказать зажечь в курильнице ароматические травы, призванные заглушить удушающий запах смерти, я взяла книжечку в руки.
Записи были посвящены ее придворным обязанностям в моей свите. Я быстро пролистала страницы. У меня не было желания читать о том, как она ко мне относится. Подобные вещи всегда сильно меня задевали и потом долго не давали покоя. Перемежались они многочисленными заметками про графа Эссекса. Она подмечала, что и в какой день было на нем надето!
«Сегодня на милорде Эссексе был медно-рыжий дублет».
«Сегодня милорд Эссекс, облаченный в наряд голубого цвета, который невероятно ему к лицу, надел контрастирующие с ним чулки цвета шерсти новорожденного ягненка…»