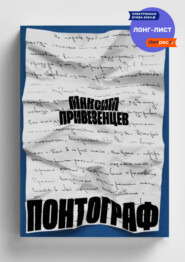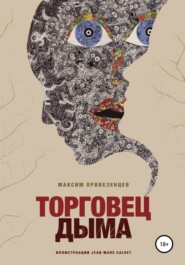По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они отпустили одного извозчика, погрузились втроем ко второму и велели ехать обратно в город. По дороге Лермонтов много шутил, улыбался и в целом вел себя крайне непринужденно. Глядя на него, Уваров вспомнил слова Монго, сказанные позавчера на балу – про то, что Мишель будто бы наперед знает, чем все кончится, оттого и не переживает. Теперь это казалось еще более похожим на правду, чем прежде.
«Похоже, худшее уже позади, – подумал Уваров. – Оба живы, француз даже не ранен, а у Мишеля – всего-то царапина…»
Однако несколько дней спустя стало понятно, что так просто о дуэли не забудут. Над де Барантом и Лермонтовым посмеивались, рассказывали об их поединке, как о презабавной нелепице, но – разговаривали, и молва только разрасталась… Ближе к началу марта высший свет уже вовсю обсуждал, насколько эта дуэль походит на ту, что произошла между Пушкиным и Дантесом три года назад – и тоже в феврале.
Закончилось все тем, что десятого марта Мишеля снова взяли под стражу. Уварову эту весть сообщил Монго, приехав к нему посреди воскресенья.
– В чем его вообще обвиняют? – выслушав рассказ Столыпина, осведомился Петр Алексеевич.
– Участие в дуэли и сокрытие этого факта.
– А что же де Барант?
– Пока ничего, – хмыкнул Монго. – Но, подозреваю, уедет на родину, как Дантес. Говорят, сам царь заботится о том, чтобы французик выехал как можно скорей.
– А царю-то какое дело до французика?
– Ну, не забывай, что он сын посла. Вдобавок, тут, похоже, не все так просто, как кажется на первый взгляд…
– Ты же не думаешь, что де Барант действовал… по настоянию царя? – помедлив, спросил Уваров.
– Как знать, мой друг, – с грустной улыбкой сказал Монго. – Как знать… Я вот, например, слышал, что Дантес, вернувшись во Францию, живет и здравствует, хотя по закону ему полагалась смертная казнь. Отчего же его не казнили за убийство? Ответ на этот вопрос, пожалуй, известен только Николаю…
– Что будем делать? – спросил Уваров.
– Остается только ждать суда, – ответил Монго. – Надеюсь, они не станут тянуть – дело ведь, по сути, яйца выеденного не стоит: никто не убит, а ранен разве что сам Мишель и то – несерьезно. Полагаю, у него и шрама-то не осталось…
Уваров согласился, и они со Столыпиным расстались, практически уверенные, что Лермонтов скоро окажется на свободе, безо всяких для себя последствий.
Однако вышло все совершенно иначе.
Два дня спустя после ареста Лермонтова Монго сознался, что был секундантом Мишеля, и его тоже заключили под стражу. Уваров не единожды пытался пробиться к друзьям, но все его попытки оказались тщетными: как заверяли тюремщики, посещения были строго-настрого запрещены. Петр Алексеевич успокоился было, но пару дней спустя с удивлением услышал от Гагарина, что к поэту приезжал де Барант, и они снова спорили, правда, через решетку, и Лермонтов грозился, что после освобождения все-таки довершит начатое и убьет «поганого французика».
– Что-то мне не верится, что Мишель мог говорить подобное, – заметил Уваров, когда князь закончил свой рассказ.
– Мне тоже. Но жандармы утверждают, что слышали это четко и ясно. Так что дело принимает самый худой оборот…
Шли дни, недели, а Мишель и Монго оставались под арестом. Единственным, кому удалось пробиться к заключенным, стал Белинский – прочтя только что вышедший из печати роман Лермонтова «Герой нашего времени», он пришел в вящий восторг и использовал все свое влияние, чтобы вытребовать у Бенкендорфа право на посещение поэта. Прознав об этом, Гагарин пригласил критика на внеочередное заседание кружка.
– Расскажите, как он там? – спросил князь, когда они дружной компанией пили шампанское и курили у него в гостиной.
– Держится на удивление бодро, – ответил критик. – Читает Гофмана, переводит Зейдлица и настроен вполне оптимистично. Говорит, что если переведут в армию, будет проситься на Кавказ – тамошние горы его вдохновляют. Это, кстати, очень заметно, по «Герою нашего времени». Очень атмосферная вещица, знаете ли…
– А что же Монго? Про него Мишель что-нибудь говорил?
– Просил передать, что с Алексеем все в порядке. Он, как полагает Лермонтов, избежит сколь-либо серьезного наказания, в отличие от самого Михаила.
– А вы что думаете? – спросил Уваров.
– Я думаю, что Лермонтов, увы, попал в немилость, – со вздохом сказал Белинский. – Это вдвойне печально осознавать, учитывая, что с каждым днем общество проникается к его гению все большей любовью. Увы, даже всенародная любовь не может спасти от нелюбви царя.
Уваров молча кивнул. Выводы Белинского в точности совпадали с выводами самого Петра Алексеевича.
К началу апреля ничего особенно не поменялось. Все это время Уваров и другие люди, коим были небезразличны Монго и Мишель, кормились слухами, гулявшими по Петербургу. Что только не говорили!.. Уварову снова вспомнилась история с Пушкиным и Дантесом – с той лишь разницей, что на сей раз никто не погиб: признавая несомненный талант Лермонтова, высший свет осуждал его за «горячую шотландскую кровь», которая сделала его из любимца царя едва ли не заклятым врагом престола; француза большинство почему-то оправдывало, считая его жертвой ядовитой и саркастической натуры Мишеля. Уваров поначалу пытался что-то доказывать этим болтунам, но от его слов только отмахивались – мол, ты известный друг поэта, а потому доверия тебе нет. Поняв, что слушать его не станут, Петр Алексеевич оставил любые попытки изменить общественное мнение.
В самом начале апреля де Барант с благословением царя убыл на родину, а еще через пару дней из-под ареста освободили Монго, что лишний раз подтвердило догадки лермонтовских друзей – следствие во главе с графом Бенкендорфом волновал только Мишель.
– Суд, говорят, через неделю, – встретившись с друзьями впервые после ареста, рассказал Столыпин. – Все идет к новой ссылке на Кавказ. Но посмотрим. Мишель все еще верит в лучшее – учитывая, что бабушка после его ареста слегла с параличом, он надеется, что ему позволят остаться с ней, пока не восстановит здоровье.
– Он там пишет? – поинтересовался Жерве.
– Да. Мне очень понравилось стихотворение «Соседка» – настолько, что я сходу запомнил первое четверостишие…
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы,
И окно высоко? над землёй,
И у двери стоит часовой!
– Похоже, оно обещает стать гимном среди заключенных, – добавил Столыпин.
Как показало время, Монго не соврал: суд действительно состоялся через неделю, двадцатого апреля. Помимо сокрытия дуэли, граф Бенкендорф обвинил Лермонтова в даче ложных показаний; разумеется, не остались без внимания и угрозы в адрес де Баранта – иронично, но никого из участников сего действа, практически театрального, не волновало, каким образом француз вообще попал к Лермонтову в тюремный корпус в Ордонансгаузе, куда посторонние не допускались. Не ошибся Монго и с приговором: им стала новая бессрочная ссылка на Кавказ. А вот надежды Мишеля на то, что ему позволят задержаться в городе, покуда бабушка не пойдет на поправку, не оправдались – суд обязал доставить поручика Лермонтова на Кавказ не позже конца апреля.
– Не представляю, что будет с Елизаветой Алексеевной, – со вздохом сказал Монго, когда на следующий день после суда заехал навестить Уварова. – Она и так плоха, а тут – подобные вести… Видел бы ты ее лицо, когда я приехал к ней вчера. Боюсь за нее.
– Вести и вправду ужасные, – признал Уваров. – Скажи, Монго, будет ли у нас возможность встретиться с Мишелем перед отъездом?
– Насколько мне известно, по дороге на Кавказ ему позволят на несколько дней задержаться в Москве – столько потребуется, чтобы оформить все необходимые бумаги. Думаю, это лучшая возможность, чтобы проститься с ним перед его отъездом в Грозный.
Уваров признал, что это действительно так, и они с Монго условились также отправиться в столицу вслед за Мишелем. К счастью, на сей раз обошлось без неприятных сюрпризов, и потому девятого мая состоялась долгожданная встреча в Москве, на именинах у Гоголя.
Первая мысль, которая мелькнула в голове Петра Алексеевича, когда он увидел Лермонтова после долгой разлуки:
«Что же с ним сделали?»
Метаморфоза, произошедшая с Мишелем, поразила Уварова: вместо жизнерадостного, неунывающего балагура перед ним стоял человек, как будто уставший от самого своего существования, напрочь лишенный огня в глазах. Лермонтов пытался шутить, периодически улыбался, но выходило все это у него на удивление неестественно, словно он не был здесь, а всего лишь отбывал роль – этакий пожилой артист театра, который уже не получает удовольствия от сценической игры и с нетерпением ждет завершения своего прощального спектакля.
Улучив момент, когда Мишель остался один, Уваров подступил к нему вплотную и спросил:
– Как ты, милый друг?
– Наслаждаюсь хорошей компанией, пока есть такая возможность… Как тебе, кстати, Хомяков? По мне, так славный малый, хоть и славянофил… Надеюсь, я не обидел его своей риторикой?
Под хмурым взглядом Уварова он смолк, а потом сказал:
– Ну какого ответа ты от меня ждешь, Петр?
«Похоже, худшее уже позади, – подумал Уваров. – Оба живы, француз даже не ранен, а у Мишеля – всего-то царапина…»
Однако несколько дней спустя стало понятно, что так просто о дуэли не забудут. Над де Барантом и Лермонтовым посмеивались, рассказывали об их поединке, как о презабавной нелепице, но – разговаривали, и молва только разрасталась… Ближе к началу марта высший свет уже вовсю обсуждал, насколько эта дуэль походит на ту, что произошла между Пушкиным и Дантесом три года назад – и тоже в феврале.
Закончилось все тем, что десятого марта Мишеля снова взяли под стражу. Уварову эту весть сообщил Монго, приехав к нему посреди воскресенья.
– В чем его вообще обвиняют? – выслушав рассказ Столыпина, осведомился Петр Алексеевич.
– Участие в дуэли и сокрытие этого факта.
– А что же де Барант?
– Пока ничего, – хмыкнул Монго. – Но, подозреваю, уедет на родину, как Дантес. Говорят, сам царь заботится о том, чтобы французик выехал как можно скорей.
– А царю-то какое дело до французика?
– Ну, не забывай, что он сын посла. Вдобавок, тут, похоже, не все так просто, как кажется на первый взгляд…
– Ты же не думаешь, что де Барант действовал… по настоянию царя? – помедлив, спросил Уваров.
– Как знать, мой друг, – с грустной улыбкой сказал Монго. – Как знать… Я вот, например, слышал, что Дантес, вернувшись во Францию, живет и здравствует, хотя по закону ему полагалась смертная казнь. Отчего же его не казнили за убийство? Ответ на этот вопрос, пожалуй, известен только Николаю…
– Что будем делать? – спросил Уваров.
– Остается только ждать суда, – ответил Монго. – Надеюсь, они не станут тянуть – дело ведь, по сути, яйца выеденного не стоит: никто не убит, а ранен разве что сам Мишель и то – несерьезно. Полагаю, у него и шрама-то не осталось…
Уваров согласился, и они со Столыпиным расстались, практически уверенные, что Лермонтов скоро окажется на свободе, безо всяких для себя последствий.
Однако вышло все совершенно иначе.
Два дня спустя после ареста Лермонтова Монго сознался, что был секундантом Мишеля, и его тоже заключили под стражу. Уваров не единожды пытался пробиться к друзьям, но все его попытки оказались тщетными: как заверяли тюремщики, посещения были строго-настрого запрещены. Петр Алексеевич успокоился было, но пару дней спустя с удивлением услышал от Гагарина, что к поэту приезжал де Барант, и они снова спорили, правда, через решетку, и Лермонтов грозился, что после освобождения все-таки довершит начатое и убьет «поганого французика».
– Что-то мне не верится, что Мишель мог говорить подобное, – заметил Уваров, когда князь закончил свой рассказ.
– Мне тоже. Но жандармы утверждают, что слышали это четко и ясно. Так что дело принимает самый худой оборот…
Шли дни, недели, а Мишель и Монго оставались под арестом. Единственным, кому удалось пробиться к заключенным, стал Белинский – прочтя только что вышедший из печати роман Лермонтова «Герой нашего времени», он пришел в вящий восторг и использовал все свое влияние, чтобы вытребовать у Бенкендорфа право на посещение поэта. Прознав об этом, Гагарин пригласил критика на внеочередное заседание кружка.
– Расскажите, как он там? – спросил князь, когда они дружной компанией пили шампанское и курили у него в гостиной.
– Держится на удивление бодро, – ответил критик. – Читает Гофмана, переводит Зейдлица и настроен вполне оптимистично. Говорит, что если переведут в армию, будет проситься на Кавказ – тамошние горы его вдохновляют. Это, кстати, очень заметно, по «Герою нашего времени». Очень атмосферная вещица, знаете ли…
– А что же Монго? Про него Мишель что-нибудь говорил?
– Просил передать, что с Алексеем все в порядке. Он, как полагает Лермонтов, избежит сколь-либо серьезного наказания, в отличие от самого Михаила.
– А вы что думаете? – спросил Уваров.
– Я думаю, что Лермонтов, увы, попал в немилость, – со вздохом сказал Белинский. – Это вдвойне печально осознавать, учитывая, что с каждым днем общество проникается к его гению все большей любовью. Увы, даже всенародная любовь не может спасти от нелюбви царя.
Уваров молча кивнул. Выводы Белинского в точности совпадали с выводами самого Петра Алексеевича.
К началу апреля ничего особенно не поменялось. Все это время Уваров и другие люди, коим были небезразличны Монго и Мишель, кормились слухами, гулявшими по Петербургу. Что только не говорили!.. Уварову снова вспомнилась история с Пушкиным и Дантесом – с той лишь разницей, что на сей раз никто не погиб: признавая несомненный талант Лермонтова, высший свет осуждал его за «горячую шотландскую кровь», которая сделала его из любимца царя едва ли не заклятым врагом престола; француза большинство почему-то оправдывало, считая его жертвой ядовитой и саркастической натуры Мишеля. Уваров поначалу пытался что-то доказывать этим болтунам, но от его слов только отмахивались – мол, ты известный друг поэта, а потому доверия тебе нет. Поняв, что слушать его не станут, Петр Алексеевич оставил любые попытки изменить общественное мнение.
В самом начале апреля де Барант с благословением царя убыл на родину, а еще через пару дней из-под ареста освободили Монго, что лишний раз подтвердило догадки лермонтовских друзей – следствие во главе с графом Бенкендорфом волновал только Мишель.
– Суд, говорят, через неделю, – встретившись с друзьями впервые после ареста, рассказал Столыпин. – Все идет к новой ссылке на Кавказ. Но посмотрим. Мишель все еще верит в лучшее – учитывая, что бабушка после его ареста слегла с параличом, он надеется, что ему позволят остаться с ней, пока не восстановит здоровье.
– Он там пишет? – поинтересовался Жерве.
– Да. Мне очень понравилось стихотворение «Соседка» – настолько, что я сходу запомнил первое четверостишие…
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы,
И окно высоко? над землёй,
И у двери стоит часовой!
– Похоже, оно обещает стать гимном среди заключенных, – добавил Столыпин.
Как показало время, Монго не соврал: суд действительно состоялся через неделю, двадцатого апреля. Помимо сокрытия дуэли, граф Бенкендорф обвинил Лермонтова в даче ложных показаний; разумеется, не остались без внимания и угрозы в адрес де Баранта – иронично, но никого из участников сего действа, практически театрального, не волновало, каким образом француз вообще попал к Лермонтову в тюремный корпус в Ордонансгаузе, куда посторонние не допускались. Не ошибся Монго и с приговором: им стала новая бессрочная ссылка на Кавказ. А вот надежды Мишеля на то, что ему позволят задержаться в городе, покуда бабушка не пойдет на поправку, не оправдались – суд обязал доставить поручика Лермонтова на Кавказ не позже конца апреля.
– Не представляю, что будет с Елизаветой Алексеевной, – со вздохом сказал Монго, когда на следующий день после суда заехал навестить Уварова. – Она и так плоха, а тут – подобные вести… Видел бы ты ее лицо, когда я приехал к ней вчера. Боюсь за нее.
– Вести и вправду ужасные, – признал Уваров. – Скажи, Монго, будет ли у нас возможность встретиться с Мишелем перед отъездом?
– Насколько мне известно, по дороге на Кавказ ему позволят на несколько дней задержаться в Москве – столько потребуется, чтобы оформить все необходимые бумаги. Думаю, это лучшая возможность, чтобы проститься с ним перед его отъездом в Грозный.
Уваров признал, что это действительно так, и они с Монго условились также отправиться в столицу вслед за Мишелем. К счастью, на сей раз обошлось без неприятных сюрпризов, и потому девятого мая состоялась долгожданная встреча в Москве, на именинах у Гоголя.
Первая мысль, которая мелькнула в голове Петра Алексеевича, когда он увидел Лермонтова после долгой разлуки:
«Что же с ним сделали?»
Метаморфоза, произошедшая с Мишелем, поразила Уварова: вместо жизнерадостного, неунывающего балагура перед ним стоял человек, как будто уставший от самого своего существования, напрочь лишенный огня в глазах. Лермонтов пытался шутить, периодически улыбался, но выходило все это у него на удивление неестественно, словно он не был здесь, а всего лишь отбывал роль – этакий пожилой артист театра, который уже не получает удовольствия от сценической игры и с нетерпением ждет завершения своего прощального спектакля.
Улучив момент, когда Мишель остался один, Уваров подступил к нему вплотную и спросил:
– Как ты, милый друг?
– Наслаждаюсь хорошей компанией, пока есть такая возможность… Как тебе, кстати, Хомяков? По мне, так славный малый, хоть и славянофил… Надеюсь, я не обидел его своей риторикой?
Под хмурым взглядом Уварова он смолк, а потом сказал:
– Ну какого ответа ты от меня ждешь, Петр?