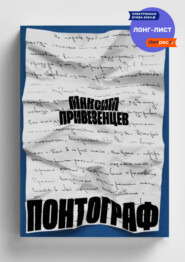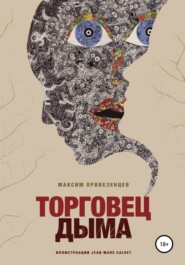По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уваров не нашелся, что ответить.
– Мне надо выкурить еще одну папиросу, – со вздохом сказал Гагарин.
Лермонтов вернулся чуть позже.
– Снова табачите, господа! – ухмыльнулся он, когда опять застал их курящими в гостиной.
Казалось, он такой же веселый, как и прежде… но, присмотревшись, Петр Алексеевич заметил, что Лермонтов все-таки нервничает: движения его стали более резкими, дерганными, улыбка – фальшивой и вымученной.
– О чем договорились? – хмуро посмотрев на Мишеля исподлобья, спросил Монго.
– Послезавтра, в воскресенье, в полдень у Черной речки, – понизив голос, сказал поэт. – Они берут рапиры, ты – пистолеты.
– То есть ты назвал меня своим секундантом? – выгнул бровь Столыпиным.
– А ты разве пустил бы со мной кого-то, кроме себя? – хмыкнул Лермонтов. – Будь моя воля, я бы вообще обошелся без секунданта, но традиции… Ладно. С вашего позволения, я вернусь к Марии Алексеевне и постараюсь ее успокоить. Бедняжка принимает все слишком близко к сердцу…
Сказав это, он снова растворился в толпе, точно привидение.
– Неужто он взаправду так бесстрашен? – угрюмо спросил князь.
– Думаю, так он успокаивает сам себя и окружающих, – сказал Монго. – Хотя порой мне кажется, что он знает все наперед, оттого и не беспокоится ни о чем…
– Я поеду с вами, послезавтра, – произнес Уваров.
Столыпин смерил его взглядом.
– Уверен? А ты… ты до конца осознаешь, чем все может закончиться?
К горлу Уварова подкатил комок.
– Уверен, – выдавил Петр Алексеевич.
Еще один тяжелый взор.
– Прошу, Монго, – тихо добавил Уваров.
– Хорошо, мон шер, – вздохнул Столыпин. – Будь по-твоему…
Тот вечер показался Петру Алексеевичу донельзя странным. Мишель кружил вокруг возлюбленной княгини, Монго и Гагарин резались в карты, а Уваров безучастной тенью следовал за друзьями, погруженный в думы. С одной стороны, ему хотелось поехать домой и поскорее лечь спать, чтобы хоть в царстве Морфея попытаться укрыться от тревожных мыслей; с другой, Петр Алексеевич не желал оставаться один. Лишь когда Столыпин, устав проигрывать князю, решился покинуть бал, Уваров последовал за ним.
Весь следующий день Петр Алексеевич не находил себе места, а сразу после заката лег в постель, но спал плохо, часто просыпался и подолгу смотрел сквозь тьму в потолок, прежде чем забывался вновь.
Воскресное утро ворвалось в комнату ярким солнечным лучом. Петр Алексеевич совершенно разбитый, наспех привел себя в порядок и уселся за стол, чтобы с книгой и папиросой скоротать время до приезда Лермонтова и Монго. Время ползло до жути медленно; Уваров то и дело посматривал на часы, но дуэлянт с секундантом все не появлялись. Наконец, уже в начале двенадцатого Петра Алексеевича осенило, и он, вскочив из-за стола, бросился на улицу, чтобы поймать экипаж.
«Ох, уж мне эта ваша забота, друзья…» – думал Уваров, трясясь в карете.
На подъезде к Черной речке Петр Алексеевич заметил экипаж, стоящий у дороги, и скучающего на козлах извозчика. Остановившись напротив, Уваров высунулся наружу и спросил, кого тот ждет. Мужик нехотя ответил:
– Двух господ.
– Как выглядели господа?
Извозчик замялся, потом уже открыл рот, чтобы ответить, когда вдали грянул выстрел. Уваров подскочил на сидении от неожиданности.
«Стреляют. Стреляют!..»
Он выскочил из кареты и бросился туда, откуда раздался звук. Не успел пробежать и десяти шагов, как вдалеке прогремел еще один выстрел. Петр Алексеевич ускорил шаг. Идти было крайне трудно; ноги вязли в февральском снегу, точно в болоте.
«Ну же…»
Наконец Уваров увидел, что в его сторону идут двое, и остановился, чтобы отдышаться и заодно присмотреться. Издали было трудно понять, кто это, французы или Монго с Мишелем. От волнения у Петра Алексеевича перехватило дыхание. Никогда еще он так не переживал.
«Молю…»
– Петр! Ты чего тут делаешь?! – наконец воскликнул один из идущих, и Уваров облегченно выдохнул, узнав Монго.
Он поспешил навстречу друзьям. Приблизившись, сразу заметил, что Лермонтов держится левой рукой за правое запястье. Пальцы были красными от крови.
– Царапина, – поняв, куда смотрит Уваров, сказал поэт.
– Что у вас там произошло? – спросил Петр Алексеевич. – Я слышал два выстрела…
– Как-то даже… неловко рассказывать, – хмыкнул Лермонтов.
– Сначала выбрали рапиры, – со вздохом произнес Монго. – Сошлись. Де Барант фехтовал неумело, а Мишель…
– Я защищался, – сказал поэт.
– В общем, Мишель отбивался, потом француз смог его порезать, Мишель разозлился, перешел в атаку, ударил с размаху, но попал клинком в самый эфес, и его рапира лопнула. Я, конечно, сразу все остановил…
– И мы взяли пистолеты, – вставил Лермонтов. – Французик стрелять умел еще хуже, чем фехтовать. Целился, наверное, с час, но промахнулся.
– А вы? – севшим от волнения голосом спросил Уваров.
Ему пришла в голову страшная мысль: если Мишель вот он, живой, стоит перед ним, то где же де Барант? Если поэт убил его, спуску ему вряд ли дадут – припомнят и ту историю, со стихом на смерть Пушкина, и участие в кружке шестнадцати…
– А я в него целиться не стал – выстрелил в воздух, – пожал плечами Лермонтов. – Потом мы пожали друг другу руки и разошлись. Все. Сейчас иду и думаю – может, говорить всем, что я его пристрелил? А то ведь засмеют – бились-бились, а итог всему – сломанная рапира да две переведенных пули…
Монго закатил глаза. Поэт хмыкнул, однако, увидев манжету сорочки, изменился в лице и обеспокоенно пробормотал:
– Надо бы где-то руку обмыть и переодеться в чистое, а то бабушка увидит кровь, расстроится…
– Можно у меня, – предложил Уваров.
– Идея хороша, – кивнул поэт, снова расплываясь в улыбке. – Спасибо, Петр.
– Да будет тебе… ерунда…
– Мне надо выкурить еще одну папиросу, – со вздохом сказал Гагарин.
Лермонтов вернулся чуть позже.
– Снова табачите, господа! – ухмыльнулся он, когда опять застал их курящими в гостиной.
Казалось, он такой же веселый, как и прежде… но, присмотревшись, Петр Алексеевич заметил, что Лермонтов все-таки нервничает: движения его стали более резкими, дерганными, улыбка – фальшивой и вымученной.
– О чем договорились? – хмуро посмотрев на Мишеля исподлобья, спросил Монго.
– Послезавтра, в воскресенье, в полдень у Черной речки, – понизив голос, сказал поэт. – Они берут рапиры, ты – пистолеты.
– То есть ты назвал меня своим секундантом? – выгнул бровь Столыпиным.
– А ты разве пустил бы со мной кого-то, кроме себя? – хмыкнул Лермонтов. – Будь моя воля, я бы вообще обошелся без секунданта, но традиции… Ладно. С вашего позволения, я вернусь к Марии Алексеевне и постараюсь ее успокоить. Бедняжка принимает все слишком близко к сердцу…
Сказав это, он снова растворился в толпе, точно привидение.
– Неужто он взаправду так бесстрашен? – угрюмо спросил князь.
– Думаю, так он успокаивает сам себя и окружающих, – сказал Монго. – Хотя порой мне кажется, что он знает все наперед, оттого и не беспокоится ни о чем…
– Я поеду с вами, послезавтра, – произнес Уваров.
Столыпин смерил его взглядом.
– Уверен? А ты… ты до конца осознаешь, чем все может закончиться?
К горлу Уварова подкатил комок.
– Уверен, – выдавил Петр Алексеевич.
Еще один тяжелый взор.
– Прошу, Монго, – тихо добавил Уваров.
– Хорошо, мон шер, – вздохнул Столыпин. – Будь по-твоему…
Тот вечер показался Петру Алексеевичу донельзя странным. Мишель кружил вокруг возлюбленной княгини, Монго и Гагарин резались в карты, а Уваров безучастной тенью следовал за друзьями, погруженный в думы. С одной стороны, ему хотелось поехать домой и поскорее лечь спать, чтобы хоть в царстве Морфея попытаться укрыться от тревожных мыслей; с другой, Петр Алексеевич не желал оставаться один. Лишь когда Столыпин, устав проигрывать князю, решился покинуть бал, Уваров последовал за ним.
Весь следующий день Петр Алексеевич не находил себе места, а сразу после заката лег в постель, но спал плохо, часто просыпался и подолгу смотрел сквозь тьму в потолок, прежде чем забывался вновь.
Воскресное утро ворвалось в комнату ярким солнечным лучом. Петр Алексеевич совершенно разбитый, наспех привел себя в порядок и уселся за стол, чтобы с книгой и папиросой скоротать время до приезда Лермонтова и Монго. Время ползло до жути медленно; Уваров то и дело посматривал на часы, но дуэлянт с секундантом все не появлялись. Наконец, уже в начале двенадцатого Петра Алексеевича осенило, и он, вскочив из-за стола, бросился на улицу, чтобы поймать экипаж.
«Ох, уж мне эта ваша забота, друзья…» – думал Уваров, трясясь в карете.
На подъезде к Черной речке Петр Алексеевич заметил экипаж, стоящий у дороги, и скучающего на козлах извозчика. Остановившись напротив, Уваров высунулся наружу и спросил, кого тот ждет. Мужик нехотя ответил:
– Двух господ.
– Как выглядели господа?
Извозчик замялся, потом уже открыл рот, чтобы ответить, когда вдали грянул выстрел. Уваров подскочил на сидении от неожиданности.
«Стреляют. Стреляют!..»
Он выскочил из кареты и бросился туда, откуда раздался звук. Не успел пробежать и десяти шагов, как вдалеке прогремел еще один выстрел. Петр Алексеевич ускорил шаг. Идти было крайне трудно; ноги вязли в февральском снегу, точно в болоте.
«Ну же…»
Наконец Уваров увидел, что в его сторону идут двое, и остановился, чтобы отдышаться и заодно присмотреться. Издали было трудно понять, кто это, французы или Монго с Мишелем. От волнения у Петра Алексеевича перехватило дыхание. Никогда еще он так не переживал.
«Молю…»
– Петр! Ты чего тут делаешь?! – наконец воскликнул один из идущих, и Уваров облегченно выдохнул, узнав Монго.
Он поспешил навстречу друзьям. Приблизившись, сразу заметил, что Лермонтов держится левой рукой за правое запястье. Пальцы были красными от крови.
– Царапина, – поняв, куда смотрит Уваров, сказал поэт.
– Что у вас там произошло? – спросил Петр Алексеевич. – Я слышал два выстрела…
– Как-то даже… неловко рассказывать, – хмыкнул Лермонтов.
– Сначала выбрали рапиры, – со вздохом произнес Монго. – Сошлись. Де Барант фехтовал неумело, а Мишель…
– Я защищался, – сказал поэт.
– В общем, Мишель отбивался, потом француз смог его порезать, Мишель разозлился, перешел в атаку, ударил с размаху, но попал клинком в самый эфес, и его рапира лопнула. Я, конечно, сразу все остановил…
– И мы взяли пистолеты, – вставил Лермонтов. – Французик стрелять умел еще хуже, чем фехтовать. Целился, наверное, с час, но промахнулся.
– А вы? – севшим от волнения голосом спросил Уваров.
Ему пришла в голову страшная мысль: если Мишель вот он, живой, стоит перед ним, то где же де Барант? Если поэт убил его, спуску ему вряд ли дадут – припомнят и ту историю, со стихом на смерть Пушкина, и участие в кружке шестнадцати…
– А я в него целиться не стал – выстрелил в воздух, – пожал плечами Лермонтов. – Потом мы пожали друг другу руки и разошлись. Все. Сейчас иду и думаю – может, говорить всем, что я его пристрелил? А то ведь засмеют – бились-бились, а итог всему – сломанная рапира да две переведенных пули…
Монго закатил глаза. Поэт хмыкнул, однако, увидев манжету сорочки, изменился в лице и обеспокоенно пробормотал:
– Надо бы где-то руку обмыть и переодеться в чистое, а то бабушка увидит кровь, расстроится…
– Можно у меня, – предложил Уваров.
– Идея хороша, – кивнул поэт, снова расплываясь в улыбке. – Спасибо, Петр.
– Да будет тебе… ерунда…