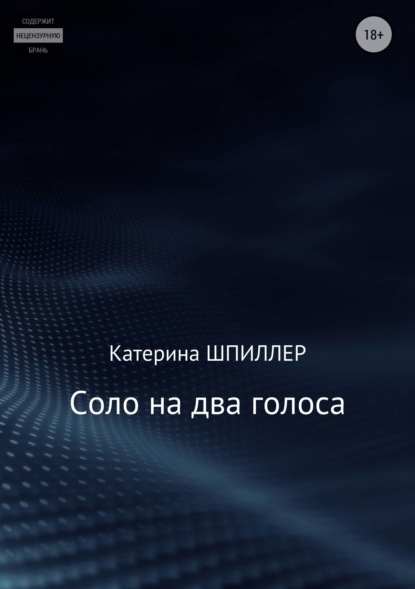По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Соло на два голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь моё утро часто начинается с того, что я стою в ванной перед зеркалом и смотрю на себя, улыбающуюся. Долго. Целых пять минут. И так мне становится приятно! Спокойно и тепло. Нету больше деревянного Гуимплена. Всё, исдох.
А всего-то надо было сменить страну проживания.
Тепло! Всегда лето. Жаркое, испепеляющее! Да и ладно, не проблема: повсюду кондиционеры, в уличных кафе – холодящие вентиляторы. Есть более важная задача – не сгореть под зверским и безжалостным солнцем. А то больно будет! Кремы в помощь и маечки с закрытыми плечами. В общем, как ни стараюсь вытащить из себя хоть какое-то недовольство или проблему, случившуюся из-за переезда сюда, а не получается. Мне здесь хорошо. Я счастлива. Я – дома.
И что самое интересное… не интересное – главное. Мои замыкания… нет, не прекратились. Но изменились. Можно сказать – качественно, можно выразиться – духовно, но, главное, констатирую: они стали мне приятны, я их жду, теперь это долгожданные встречи, а не просто тыканье меня носом в какое-то событие, значившее что-то архиважное, либо должное мне что-то объяснить, что я, дура немолодая, так до сих пор и не смогла понять без тыканья носом, как тычут кошку в нахулиганенное.
Вспоминаю нагрянувшие ещё перед отъездом из Москвы замыкания. В основном мне «показывали» (кто? кто?!) не самые радужные эпизоды-картинки. Точнее даже так: в тот момент, я, которая из прошлого, могла их оценивать иначе или никак не оценивать – ну, минута и минута, такая же, как все до неё и после. А теперь, из далёкого будущего, очевидно, что то был либо момент некого перелома в жизни (как история знакомства с мужем в спортзале института), либо типичная повторяющаяся раз за разом ситуация, напрасно мною в своё время игнорируемая и вообще неверно оцениваемая всю предыдущую жизнь. А эти эпизоды, оказывается, вовсе не были рядовыми.
К примеру, тогда, в кухне, когда я зависла над вскипающим молоком. Когда малютка Сашка мне, молодой дуре-матери, говорила в спину что-то важное. А я не слышала, не слушала, раздражалась и не видела её тогдашнюю мордашку – такую выразительную и необыкновенную. Сколько раз за её младенчество было подобных моментов? Да миллион же, наверное. И все их я упустила, проворонила, прошляпила, погружённая в дурацкие мелочи – подогревание молока, вытирание пыли, собирание игрушек и прочее, настолько же «эпохальное и неповторимое», дурья моя башка. А ведь то были настоящие моменты счастья и полноты жизни, которые можно и нужно переживать каждой своей нервной клеточкой, замечая все пустяки и нюансы, запоминая каждую деталь, наслаждаясь каждой лишней секундочкой, подаренной мирозданием не просто для ощущения радости, а для удивительно приятного погружения в понимание, для чего мы живём, для чего появились на свет в этих телах, с этими органами чувств, с умением видеть, слышать, осязать.
А вот именно для того, чтобы испытать кайф от подобных мгновений! Когда прижимаешь к себе родное тельце ребёнка и кожей ощущаешь это божественное прикосновение, когда твои ноздри щекочет молочный аромат его волос! Задержись, зацепись, залипни в эту минуту, пусть весь мир подождёт, выключи свою дурацкую плиту с молоком! Пять минут, ну, какие-то пять минут, тебе уже про это полвека поют из телевизора!
В эти минутки ты сыграешь с ребёнком в игру «нам друг от друга кайф чудесный!». Лишний (не лишний!) раз потрётесь носиками, пободаетесь в «баран-баран-бушки», и ты насладишься дочкиным мультяшным хохотом, в котором будет столько счастья, сколько ты и не думала ей подарить, и не надеялась, потому что – кто ты такая, бог, что ли? А вот бог! Могла быть богом. Могла творить огромное количество счастья. И, глядишь, не пришлось бы через четверть века упадать в какие-то замыкания, чтобы дошло, чтобы понять, какой же дурой была, сколько вариантов и моделей счастья прокатилось мимо тебя, слепоглухонемой правильной мамы, озабоченной молоком и пелёнками. Правильные мамы – они всегда озабоченные, у них складочка между бровей оформляется практически в рубец уже к тридцатнику. Вечные решательницы ну просто невозможных проблем.
Потом начинается вселенский вой: как же так, почему всё так быстро прошло и ушло, как мгновенно вырастают дети, как я скучаю по своей маленькой ляльке, где бы сделать хороший, большой, качественный укол ботокса в межбровье? Бездарно всё это. Никто нам не виноват. Жизнь могла быть чудесной, если бы не сами себе дуры.
Вот, что мне удалось понять благодаря московским замыканиям. И это было не самое радостное открытие в жизни, вот уж воистину! Осознать, что ты сама-сама неправильным распределением своих душевных сил сделала жизнь такой, какая она и получилась в итоге с соответствующим послевкусием – штука невесёлая. Мне есть, что предъявить миру и людям вокруг себя, начиная с матери, но есть то, что уже лично моё, мои косяки. Моя глупость. Моё личное неумение понять, что главное, а что абсолютная ерунда.
Впрочем, навеки, навсегда причина всех моих неправильных шагов и действий в одном, в самом главном: я не умею любить. Как выяснилось. Мне не дано? Или оно, умение, в какой-то момент сломалось? Как это всё по сей день сложно, непонятно, необъяснимо! Ведь вот кажется мне, что Сашку свою я обожаю. Но с некоторых пор тоже очень придирчиво анализирую и ревизую чувство к дочери. Вдруг есть что-то не то, не оно? И надо ли в этом, в принципе, разбираться? Так ведь, наверное, надо, коли всё складывается нелепо и странно, а если быть точной, то вообще не складывается. Если человек за сорок абсолютно одинок, никому не нужен – это трагедия. Наверное. Но если при этом и ему особенно не нужен никто, то уже вроде и не трагедия, правда? Но что-то грустно и неправильно. Так быть не должно, как мне кажется. Есть в этом ущербность и, скорее всего, именно моя. Вряд ли можно кардинальным образом изменить себя в моём возрасте, да и желания такого не возникает, но вот разобраться хочется. «Орешек знанья твёрд, но всё же мы не привыкли отступать…» Помните? Вот и я хочу всё знать, вернее – понять.
Однажды где-то прочитала: умирать надо вовремя, ни в коем случае не задерживаясь ни на минутку, чтобы не испортить о себе впечатления – хорошего, разумеется, и если оно было, разумеется. Вот папа не задержался. Совсем уж не задержался! И я его вспоминаю, как того единственного человека, которого любила без вопросов и безусловно. Но мне же было восемь… Я не успела тогда ещё научиться любить сознательно, без детской инстинктивной привязанности, любить именно такого папу, именно этого, а никакого другого! Ничего я не успела. И, может, папа просто не успел меня разочаровать?
Сашка обещала приехать ко мне в Израиль погостить как только, так сразу. Я её не тороплю, не дёргаю, ибо перелёт из Чикаго в мою Нетанию всё же стоит не два с половиной фантика. Не будем форсировать, мы всё равно можем хоть каждый день болтать по скайпу и с ней, и с Ларкой, которая также обещалась быть. Возможно, следующей весной, когда ей удастся выгрызть себе отпуск, что не такая уж простая задача. Но, положа руку на сердце, признаюсь: общения с дорогими людьми мне вполне хватает с помощью Интернета. Оно же видео, оно же аудио.
Вот, например, как же великолепно мы с Лариской отметили её недавний день рождения! У нас получилась нано-электронная-сверхтехническая феерия, посиделки будущего. Заранее обо всём договорились, приготовили салаты по одинаковым рецептам, купили одно и то же к чаю для светского обсуждения качества десерта (приобрести в Израиле что-то из ассортимента московских магазинов не представляет особого труда). Запаслись хорошим вином и ровно в семь вечера сели перед своими мониторами.
Мы трепались, как подорванные, в точности так же, как в прошлом. Хвастались новыми шмотками. Слушали нашу любимую музыку, чокались через экран, травили анекдоты и ржали совершенно неприлично громким хохотом. Интересно, что подумали мои милые соседи? Наверное, что ко мне пришла очень любимая, но весьма шумная и любящая зажечь подружка. И она таки пришла!
Я лишь не могла её обнять и уткнуться ей в плечо, почувствовав родной, любимый запах… А в остальном всё было почти, вот совсем почти по-прежнему.
С Сашенькой, конечно, выходит иначе: у неё нет времени зависать со мной часами, мы примерно по четверти часа болтаем, но успеваем друг другу рассказать всё самое важное. Ну, каждая из нас, наверное, думает, что другая верит в это самое «всё самое важное». Сашуля про меня многого не знает. Уверена, что я про неё тоже. Зато я лучше всех на свете знаю её глаза, тон и мимику, поэтому могу утверждать: с моим малышом всё в порядке. Она спокойна, довольна жизнью и у неё нет на меня вагона времени, что справедливо. Если ещё учитывать разницу часовых поясов… Во время наших скайп-сеансов я замечаю взгляды, украдкой ею брошенные на наручные часики. А часы-то недешевые, «Rado» и, как я потом уточнила по каталогам, последней модели. То есть, у детей всё хорошо, а что мне ещё нужно? Обнять. Прижать к себе. Провести ладонью по волосам. Да, это всё важно и прекрасно, но можно и обойтись. В конце концов, если плата за расставания и расстояния всего лишь такая – прикосновения и объятия – то мы самые счастливые люди в мире.
– Анька! Что задумалась, почему опять куда-то отплываешь в сторону, а? – Ларка звонко стучит бокальчиком в экран, я вздрагиваю.
– Я тута, тута! – машу рукой подруге. – Про Сашку подумала, как хорошо, что у неё всё… хорошо! И насколько мне самой от этого знания легче живётся, какая же она у меня умница, что сняла с моей больной башки тревогу и психопатство за неё, за её жизнь.
– Да-а-а, – задумчиво протянула Лариса. – Дети у нас с тобой – просто подарки под ёлочку на Рождество. И за какие заслуги нам это? Не дети, а радость же!
– Тебе – не знаю, за какие. У тебя что мама, что сын, – засмеялась я. – В этом смысле ты всю жизнь в подарках. А вот мне… Может, компенсация за всё прошлое непотребство, а? Как мыслишь?
– Ох, Ань, – Лара вздохнула, вытянула руку и положила ладонь на экран. – Знаю, что тебе лихо пришлось, но ты ж, сукина дочка, мне и половины не рассказывала ничего про свои траблы! Ты тоже сучка! – Лариска привычно обиженно надулась, стоило разговору коснуться этой темы.
Половины? Наивная подруженька. Ты и четверти не знаешь. И десятой части. Разве ты знала про Сержа? Мой язык никогда не смог бы сложиться в то положение, при котором из меня смогли бы вылезти слова о нём, фразы, предложения. Я подавилась бы тем языком насмерть, ибо он, завязавшись в смертельный узел, просто перекрыл бы кислород мне в глотке. А что ты знала про моего папу? Это ещё одна тайна сердца моего, куда хода никому нет.
Даже Илюше хода не было, хотя этого мужчину я подпустила к себе ближе всех. Вот про Илюшу ты знаешь многое, так как всё случилось почти что на твоих глазах. По крайней мере, я тебе тогда здорово открылась – как никогда прежде.
Илюша. Прекрасный мужчина, единственный за мою жизнь давший мне понимание, ощущение того, что я – женщина и во всех смыслах. Женщина, которая может быть и желанна, и интересна как личность. И которая очень даже способна закрутить сумасшедший роман, как в кино, во французском кино, в драматическом французском кино.
«Жё суи мала-а-аде-е-е»!» – голосом Лары Фабиан распевала моя душа, когда я спешила по московскому дождичку к Илье на свидание, ощущая себя тонкой, хрупкой, но в то же время сильной и такой цельной, ну просто парижанкой – на тонких каблучках, в изящном плащике, туго перехваченном на талии кожаным пояском.
Мы ходили в кино и в рестораны. В кино (до и после) я убалтывала возлюбленного своими знаниями отечественного кинематографа. Илюша слушал меня с огромным интересом, о многом расспрашивал. Мы обсуждали фильмы, режиссёров, артистов. Сравнивали несравнимое, вспоминали, казалось, навеки забытое, обсуждали крохотные эпизоды разных кинолент, которые, оказывается, помнили и считали, что они незаслуженно обойдены вниманием публики. Нам было так интересно друг с другом!
А в ресторанах он рассказывал мне про архитектуру и живопись, прикладные искусства и отличие ар-деко от ар-нуво, а барокко от ампира. Когда мы бывали рядом, мир становился неисчерпаемым и состоящим из сплошных любопытных загадок, милых мелочей и пустяковых радостей, и всё это в плюс к дикой страсти, что буквально сжирала нас живьём, стоило нам лишь приблизиться друг к другу на расстояние пяти метров. Впрочем, зачем я бесстыдно лгу? Разве не стонала я от желания поскорее прижаться к его сильному телу даже тогда, когда он вовсе не был в поле моего зрения, когда был далеко? Ого-го как стонала…
И здесь вступает главная мелодия в исполнении первой скрипки, важнейшая тема нестройного оркестра моей жизни. Тема восхищения. Я безумно восхищалась Илюшей. Любовалась, боготворила, обожала.
Он красив. Умён. Образован. Силён.
Он всего в этой жизни добился сам. Он деловой и очень умный, а также умелый в делах и прекрасный стратег. У него связи и знакомства, а потому он уверен в себе и своих возможностях. Он смотрит на мир победителем. Он держит руль жизни в своих красивых руках, какие бывают то ли у художника, то ли у скульптора, то ли у хирурга исключительно крепко. Разве можно им не восхищаться?
Он влюбился в меня – сильно, по уши. Это было заметно. Я догадывалась, что могу им управлять по своему разумению, что он постоянно следит за моим взглядом, за моими реакциями, торопясь угадать и сделать правильно, чтобы мне понравилось. Наверное, это и есть настоящая власть женщины над мужчиной, да? Не знаю точно, ведь никогда прежде такого со мной не происходило. Но я не пользовалась этой властью, не кидала платок в сторону, чтобы он бросился его поднимать, не «ломала каблук», чтобы он вынужден был нести меня на руках. Может, зря? Может, не напрасно в былые времена женщины устраивали своим кавалерам подобные проверки, чтобы точнее узнать про них… что? Что они таким образом узнавали? Готовность потенциального спутника жизни быть внимательным и заботливым? Решимость его не гнушаться нагнуться и нести тяжесть?
В любом случае, то был не мой путь, я ж не могу до такого «опуститься». Вот, возможно, именно по этой причине что-то и не заметила с самого начала, нечто важное для меня. Может быть, моё восхищение начало бы снижать градус чуть пораньше, может, и не дошло бы до слишком крепкой связи – соответственно, с гораздо более трудным разрывом?
– Он у тебя просто прекрасен! – заявила Ларка после того, как я их познакомила. – Прекрасен до идеала, до блеска, до безупречности.
– Что-то я слышу в этих словах… не то, – испуганно заметила я. И расстроилась: что-то не так, Лариска слишком умна.
– Не знаю, Анютка… – тихонько продолжила Лариска. – Ты слишком хороша внутри, а он – снаружи.
– То есть? Он красив, я – нет, зато у меня душа хороша? – удивилась я подобному повороту.
– Ой, нет, я глупость ляпнула! – огорчилась подруга. – Совсем не в этом смысле. У него вся его хорошесть, даже прекрасность – внешняя. Нутра не видать! И я не знаю, что может проявиться в этом человеке из потаённого, из того, чего мы ни фига не видим, буквально ослепнув от блеска, Ань. Мы ж ослепли от него, согласись! Прости, но ты, по-моему, тоже не видишь… Но со стороны он – идеал и мечта. А ты, Анечка моя… Ты ж вся на ладони – хороший человек – и всё тут. Честный, верный, настоящий. Без двойного дна. С тобой спокойно сразу и навсегда. Удобно. Нам всем с тобой – и таким, как он, и как я, и как все – очень удобно!
Я удивилась тогда безмерно: вот прям такой хороший человек – это я? Я – тот, кто не знает, что такое любовь? Я – с детства помнящая о том, что моё появление на свет – ошибка и неловкость для всего мироздания? Что-то загнула подруга. Она просто меня любит и беспокоится за мою судьбу. Видит, мужик экстра-класса по всем параметрам, и испугалась за свою никакущую, но любимую подружку. Примерно так я и расценила Ларкины тогдашние слова.
Не обиделась нисколько. Настолько сильным было моё убеждение в том, что всякий, кто меня терпит, а внезапно ещё и любит, уже совершает некий беспримерный гражданский подвиг и проявляет удивительное благородство чувств, что на брошенные иной раз замечания о моей ничтожности я уже и не реагировала. Как та уродливая, старая и много раз битая собака, которую приютили добрые люди, дали кров еду и мягкую подстилку, а она покорно думала про себя: ничего, что они видят проплешины на моей некрасивой шерсти, не страшно, что у меня такая уродливая морда… они меня любят, они – прекрасные боги! Они меня и такую будут терпеть и кормить. Мне дико, страшно, исключительно повезло!
ЛИЧНО Я…
Одиночество – страшное? Страшное? Помилуйте! Оно прекрасное. Страшно, когда кто-то в него вторгается, шурша где-то там по квартире, издавая разнообразные человеческие звуки, пользуясь водой и плитой, включая телевизор… А ты вся в напряге: сейчас в комнату всунется голова и скажет: «Выходи чайку попить и хватит уже, ну!» Она, голова, хочет предложить компанию и веселье. Она хочет разрушить одиночество. И всё бы ничего, может, оно было бы не так уж и страшно, но незадача в том, что голова желает разрушить одиночество на своих, а не на моих условиях.
Голова мне предлагает такой ассортимент: яркий свет, красная помада, друзья в ресторане и послушать музыку. И я ненавижу эту голову, я хочу её откусить, отрубить, залить кислотой…
Люди не умеют проникать в чужое одиночество так, чтобы это было не разрушительно или даже приятно. Так умеют делать кошки. Пожалуй, только они и умеют. А люди – они всегда индийские слоны в крохотной посудной лавке. Но, поскольку каждый человек уверен, что «уж он-то знает, как лучше», дрессировке это всё решительно не поддаётся. Только гнать. Только грубо.
Хоть бы раз кто-нибудь попробовал по-кошачьи ввинтиться ко мне в моё одиночество, без шума и прожекторов. Тихонько, без резких движений, присел бы рядом в моей тишине, взял за руку, не раздражаясь на декорации МОЕГО мира (тихо, холодно, вечный полумрак), может, что и получилось бы. Но даже якобы любящие люди способны действовать, повинуясь лишь собственному представлению о том, что такое хорошо. Иначе они не могут – природа есть природа, а природа человека именно такова.
Высочайшая степень эмпатии и умения деликатнейшим образом, без единого резкого звука и лишнего дуновения воздуха, проникнуть в мир того, кто в принципе не рад видеть пришельцев, даже родных и любимых, кто добровольно и решительно променял яркий и многомерный мир на маленькую и тёмную келью, в которой только и способен выжить; так вот такая степень высоты понимания – дар единиц! Единиц на всей планете. Каков шанс, что такое встретится именно вам, именно мне? Правильно – нулевой. Вот и не встретилось.
Однажды подумалось так: все в мире люди для меня не посторонние, а потусторонние. Во всех смыслах. Они по ту сторону понимания того, что нужно мне, чего я хочу и как мне надо жить.
Странные мысли приходят порой в голову, когда пилишь ногти, лёжа в пенной ванне. В ушах МР-3, разумеется, с любимой музыкой – из самых обожаемых киношек. «Однажды в Америке», «Крёстный отец», «Амели», «История любви», «Пассажир под дождём», «Мужчина и женщина», «Профессионал», «Трюкач»… Мне уже остановиться в перечислении? А то ведь оно может занять очень, очень много пикселей на экране, а если представить себе бумажный вариант… ну, страницы три, не меньше, вот ей-ей.
И вот под любимейшую музыку бесконечно одолевают странные, как говорили классики – несвоевременные мысли. Впрочем, может, всё и логично, если как следует вдуматься.
Мне сейчас хорошо, тепло, приятно – и физически, и эстетически. Практически нирвана. Впереди – горячее какао с бубликом, просмотр фильма, возможно, снова работа в охотку… ну, и где-то в перспективе сладкий сон. То есть – рай, как он есть!