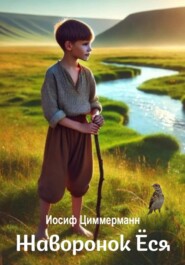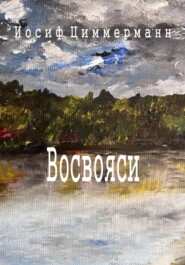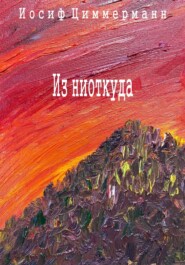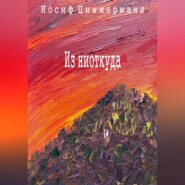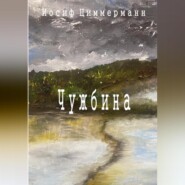По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Амалин век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пришла весна. Род Шукеновых надеялся, что русские власти про них забыли. Они, как обычно, со всем скотом откочевали в глубь степи и расположились на летнем пастбище вблизи родников речушки Уш карасу. Но байскую семью и там нашли.
В один из майских дней с запада к их аулу приблизился кавалерийский взвод казаков. На сборы отвели сутки. Потом, правда, еще одни добавили. Собирать-то было что зажиточному роду Шукеновых. Под присмотром казаков семья погрузила на арбы с огромными колесами, запряженные одногорбыми бактрианами, свои юрты и домашнюю утварь, собрали и пригнали в низину многоголовые отары, стада и табуны. Совершив молитвенный обряд, огромный караван изгнанников широким фронтом двинулся в путь.
Через двадцать верст они достигли реки Елек и переправились через нее, затем, поднявшись на высокий берег, резко повернули на юг. По правую сторону от них остались дома их зимника и большое кладбище карасайцев. Казаки не позволили каравану здесь задержаться. Лишь только бай с супругой смогли проститься с усопшими предками. Баймухамбет, сидя на корточках, читал суры из Корана. Двое кавалеристов с высоты оседланных коней с интересом наблюдали, как Абыз засовывала между камнями надгробий горсти монет, завязанные в белые лоскутки ткани.
– Че это она там делает? – поинтересовался один из казаков.
– Это у них такой обычай. Называется садака – типа подаяний нищим.
– На кладбище?
– Да. Это когда благотворительность завернута в достоинство. У киргизов даже самые нуждающиеся не станут открыто и прилюдно клянчить милостыню. Зато знают, где, не стесняясь чужих глаз, можно найти помощь.
– На обратном пути нам стоит здесь на привал остановиться, – заговорщически подмигнул один другому.
Завершив свой молебен, бай Шукенов поднялся с корточек и, повернувшись в сторону реки, раскинул на высоте плеч руки и громко, как заклинание, прокричал:
– Кеш менi, асыраушым, ?асиеттi Елегiм, айып?а б?йырма! Мен оралам, мiндеттi т?рде, оралам! Сенiн жагалауынды мы?да?ан ан-??с?а толтырамын, Ант етемiн! – (Не осуждай меня, моя кормилица, мой святой Елек! Я вернусь, обязательно вернусь! Я вновь заполню твой берег тысячами животными. Клянусь!)
Эти слова разнеслись эхом, наполняя воздух древней, обетованной силой. Наполненные болью и надеждой, они перекатывались над рекой и растворялись в бескрайних просторах степи. Казалось, даже природа на мгновение замерла, чтобы услышать клятву Баймухамбета. Его жена Абыз смахнула слёзы с глаз и осторожно положила руку ему на плечо.
После церемонии у кладбища Баймухамбет помог супруге взобраться на верблюда, к горбу которого за ручку был подвешен бесик с их, на днях рожденным, уже вторым сыном Кадырбеком, и лишь потом сам вскочил на своего Борана.
В это время по протоптанной вдоль реки дороге с севера начали подъезжать многочисленные подводы, груженные стройматериалами и рабочими. Баймухамбет с недовольством наблюдал, как колеса тяжелых телег оставляют глубокие следы в прибрежной почве. Он задумался: "Вытопчут тут все, скотине питаться станет нечем." Взгляд его скользил по темному горизонту, где когда-то было так много зелени и жизни, а теперь постепенно захватывается пространство, которое его род веками называл своим домом. В его голове крепло ощущение, что ничего хорошего не ждет эту землю.
Правда, землемеры не обманули – здесь вскоре действительно появится маленькая станция железной дороги Оренбург – Ташкент, которая, как уже решили, будет носить название Аккемир. А реку Елек, что протекала рядом, русские делопроизводители переименуют и запишут в своих документах как Илек – так, как им послышалось. Это было просто очередным фактом для них, но для Баймухамбета это значило гораздо больше: это означало, что река, которая когда-то была живым символом, связывающим его народ с предками, станет просто еще одной географической точкой на карте чуждой им империи.
Уже ничто не могло остановить этот процесс. Баймухамбет знал это, и его душу наполняла горечь. Шум и суета рабочих не могли затмить в его сердце твердое чувство утраты.
Баймухамбет заметил, что на одной из первых телег, восседал уже знакомый ему переводчик Исенгалиев. В его треснутом пенсне и полувоенном наряде, с начищенными медными пуговицами, он выглядел почти комично. Но в этом образе было нечто пугающее – человек, который еще недавно был лишь простым помощником, теперь уже становился частью той системы, которая забирает землю у родовитых и справедливых людей, как Шукеновы.
Не замечая взгляда бая, Исенгалиев демонстративно поправил свои очки и молча продолжал наблюдать за процессом.
***
Род Шукеновых, с их многочисленными тысячеголовыми отарами овец, стадами рогатого скота и табунами лошадей, почти неделю добирался в полупустынную степь Шубар-Кудука, где едва хватало жалких и редких кустиков горькой полыни, чтобы прокормить разве что сотню непривередливых верблюдов. Земля была каменистой, неуступчивой, и, несмотря на то что этот край когда-то считался частью их территории, здесь не было ни той влаги, которая позволяла пастбищам расти, ни тех живительных источников, что давали силу животным и людям. Когда наконец они достигли нового места, род Шукеновых почувствовал, что на этот раз река удачи их не поддержит.
В первый же год на новом месте Шукеновы потеряли большую часть своего богатства – скот без корма падал, а бедные земли не могли прокормить даже самых выносливых животных. Овцы, лошади и коровы чахли, умирали от голода и болезней.
Конечно, не все казахи безропотно повиновались выселению. Из глубин бескрайних степей, где еще сохранялись остатки независимости и старых традиций, некоторые батыры, отрицающие власть чужаков, то и дело совершали вылазки, нападая на власть имущих и переселенцев. Эти смелые и отчаянные атаки становились ответом на растущее давление, на попытки силой переселить их с родных земель.
Логично было ожидать, что царские чиновники, встревоженные ростом сопротивления, вскоре запровадят жесткие меры и запретят казахам кочевать, лишив их последней свободы. Отобрали почти все юрты – это было главное жилье чабанов и кочевников, да и вся культура кочевого народа была основана на этой мобильности. Когда их лишили не только земли, но и привычного уклада жизни, последствия оказались катастрофическими.
Без укрытия и возможности перемещаться с местами пастбищ, род Шукеновых, как и многие другие, столкнулся с ужасным мором: скот чахнул от голода и болезней, а сами люди, лишенные надежды, теряли силы и здоровье. Полоса бедствий и разрухи затягивалась, и лишь немногие выжившие могли еще надеяться на будущее.
А потом свершилась революция, и на фоне кровавых бурь гражданской войны старейшины рода Шукеновых приняли решение не вступать в бой. И не потому, что они признали новую советскую власть или пощадили царизм за все принесенные страдания. Нет, причина была более прозаичной и, возможно, трагичной. Род Шукеновых, лишенный своего былого богатства и надежд, терять уже не имел чего.
Сил на сопротивление не хватало, да и средств для того, чтобы бежать в Китай, как это сделали многие другие казахи, у них не было. Этот многотысячный марш через горы и степи стал бы последним для них, оставив лишь смерть и разорение. Никакой борьбы уже не было в их силах.
В такой ситуации старейшины принялись за более рациональный выбор: оставаться и переждать. Жить и дружить с большевиками, петь их песни и по полной использовать все возможности, которые новая власть готова была предложить. Белобородые старцы, пережившие столь много страха и лишений, здраво рассудили, что коллективизация и все, что с ней связано, уже не принесет им ничего хуже того, что они пережили. В конце концов, коллективизация была менее страшной, чем разруха, голод и война. Они начали адаптироваться и мириться с новыми условиями, пусть и не разделяя идеологию, но принимая ее, как неизбежность, спасение.
У бывшего богатого бая Баймухамбета Шукенова, когда-то удачно и выгодно взявшего в жены дочь одного из самых влиятельных султанов Амангазиева, из всех прежних богатств осталась лишь одна, несомненно святая для него вещь – его три сына: Мурат, Кадырбек и Данда. Последний родился уже в изгнании, в мире, который сильно изменился и оставил их семью без прежней роскоши и статуса. Тот старинный мир, где на каждом шагу встречались великолепные кочевые шатры, бескрайние стада и неспешные разговоры о чести и богатстве, исчез. Вместо этого Баймухамбет был вынужден сталкиваться с новой реальностью, где его наследие было почти стерто, а мечты о будущем теперь нуждались в иной форме.
Но, несмотря на все потери и испытания, отец нашел свое утешение в стремлении дать своим детям лучшее из того, что мог. Он больше не видел в богатствах этой земли и в своих стадах гарантию успеха. Все, что оставалось у него в этом новом мире, это желание для своих сыновей построить жизнь, полную знаний. Баймухамбет видел будущее своих детей не в пастбищах и не в руках ремесленников, а в образовании.
Он настоял, чтобы мальчики ходили в русскую школу, обучались языку, литературе и всем тем знаниям, которые были ключом к тому миру, который теперь все больше определял их судьбы. Но этого было недостаточно. Осознавая важность дополнительного образования, отец организовал домашние занятия, пригласив жить в его доме двух учительниц, которых прислали в аул после революции. Эти женщины не только учили его детей, но и стали частью его дома. Денег за их проживание аксакал естественно не брал, он заботился о том, чтобы учительницы чувствовали себя комфортно, и даже кормил их, предоставляя сытные обеды, за которыми охотно следовали уроки и занятия.
Так, после хорошего обеда, под пологом простого, но уютного дома, учителя вели уроки для троих подростков. В атмосфере, где привычный порядок был нарушен, а самобытность прошлого исчезала, Баймухамбет все же находил способы сохранить главное – стремление к свету знаний, к будущему, которое было для его сыновей новым, но обещало гораздо больше, чем любые богатства прошлого.
Шло время. В ауле был создан совхоз. Выполняя жестокие планы по мясозаготовкам, новая власть начала систематически отбирать скот у местных жителей, загоняя его в окрестности железнодорожной станции Шубар-Кудука. Здесь, в душной, пропахшей кровью и мясом атмосфере, скот убивали, разделывали и, погрузив в вагоны, отправляли свежее мясо в Москву и Ленинград. Эта политика, словно безжалостный механизм, пронизывала всю жизнь местных людей, разрушая их прежний уклад и вырывая корни из земли, на которой они жили.
Для казахских детей того времени смерть животных стала неотъемлемой частью жизни еще до того, как они научились ходить. В тех домах, где не было взрослых мужчин, а обед не мог обойтись без мяса, казашки находили выход. Брали в свою руку ладошку младенца, пусть даже грудного, и, сжимая его маленькие пальчики, заставляли его, как могли, держать нож. С его помощью они перерезали шею курице или отсекали голову барашку – жестокая, но необходимая практика для выживания в условиях, когда жизнь, казалось, не ставила вопроса о гуманности.
Не обошло стороной это и братьев Шукеновых. Подросших мальчиков, как и многих других подростков, первых привлекли к работе на мясобойне возле станции. Они стали свидетелями того, как вся их земля превращалась в механический процесс, где из людских бед и животного страха готовилась еда для чужих городов. Мир детства уходит в прошлое, а на смену ему приходят резкие запахи крови, свист ножей и машинный ритм разделки. Это было не только их испытанием, но и моментом, когда они ощутили, что часть их родной земли и культуры поглощена жаждой торговли и власти.
Со своим ремеслом они справлялись превосходно, будто родились с этим навыком. Каждый резкий, точный удар ножа или топора был отточен до совершенства, и, несмотря на свою юность, братья Шукеновы не ошибались в движениях. Но было в их трудах нечто отчаянное, обреченное. Глубокое понимание того, что их усилия тщетны, что все, что они делают, сойдет на нет – все это порождало в их сердцах зловещую предчувствие. Они были всего лишь маленькими винтиками в огромной машине, которая не спрашивала о их судьбе.
– Какие-то безголовые эти городские! – с досадой щурясь на яркое весеннее солнце, говорил Данда, глядя на вагон, в котором они трудились. – Они никогда так не довезут мясо до столицы. Разве что эшелон червей доедет.
Скользя по залитому кровью полу товарного вагона, он с братьями загружал свежие части туш говядины, стараясь прикрывать их сухой соломой, чтобы хоть немного сохранить их свежесть. Но его раздражение не проходило.
– У нас даже дети знают, что мясо без обработки за сутки испортиться может, – нервничал он, понимая, что мясо, несмотря на все их старания, будет отправлено в такой путь, который обречет его на порчу.
Мурат, старший из братьев, крепко взял топор и, не обращая внимания на бурю недовольства в голосе младшего брата, протянул ему инструмент.
– Руби! – резко сказал он. – И помалкивай! Наше дело тут маленькое. Мы тут просто выполняем свою работу.
Данда яростно взял топор и, на мгновение обдумав слова, продолжил свой протест:
– А я не буду молчать! – проорал двадцатитрехлетний парень, словно обрушивая на своих братьев всю тяжесть своих мыслей. – Это же просто вредительство получается. Пойду и растолкую начальству.
Его голос эхом отдавался в вагоне, но ни один из рабочих не обратил внимания на его гнев. Они все, как и он, понимали – любые попытки изменить ход этого безумного процесса, поправить, что-то исправить, будут бессмысленны. Жизнь, казалось, перестала быть чем-то осмысленным и понятным.
Воткнув топор между ребер коровьей туши, Данда, не колеблясь, ринулся в сторону управления. С каждым шагом его сердце билось быстрее – в его груди горело желание донести правду до тех, кто, казалось, совершенно не заботился о том, что происходило на самом деле.
– Кто здесь главный? – с решимостью спросил парень, заходя в небольшое помещение при вокзале, где от серой повседневности пахло выгоревшими бумагами и старым табаком.
За столом, сгорбленный и поглощенный своими делами, сидел пожилой мужчина, чьи глаза с трудом поднимались от кипы бумаг.
– Че хотел? – произнес он, не отрываясь от работы, словно это было самое привычное занятие в его жизни.
Данда не стал терять времени и приступил к делу:
– Да дело тут такое. Вот мы мясо грузим, а оно ведь до Москвы не доедет… пропадет, – с легким раздражением на лице добавил он.
– Че, самый умный что ли? – откликнулся тот же голос, но уже с намеком на недовольство.
– Да не дурак вроде! Я школу с отличием закончил. Просто мы – животноводы. Наша семья раньше тысячеголовые отары и стада имела. Если сейчас это мясо не просушить, то в Москву приедут черви, – настойчиво проговорил Данда, чувствуя, как закипает его гнев от такого равнодушия.
В один из майских дней с запада к их аулу приблизился кавалерийский взвод казаков. На сборы отвели сутки. Потом, правда, еще одни добавили. Собирать-то было что зажиточному роду Шукеновых. Под присмотром казаков семья погрузила на арбы с огромными колесами, запряженные одногорбыми бактрианами, свои юрты и домашнюю утварь, собрали и пригнали в низину многоголовые отары, стада и табуны. Совершив молитвенный обряд, огромный караван изгнанников широким фронтом двинулся в путь.
Через двадцать верст они достигли реки Елек и переправились через нее, затем, поднявшись на высокий берег, резко повернули на юг. По правую сторону от них остались дома их зимника и большое кладбище карасайцев. Казаки не позволили каравану здесь задержаться. Лишь только бай с супругой смогли проститься с усопшими предками. Баймухамбет, сидя на корточках, читал суры из Корана. Двое кавалеристов с высоты оседланных коней с интересом наблюдали, как Абыз засовывала между камнями надгробий горсти монет, завязанные в белые лоскутки ткани.
– Че это она там делает? – поинтересовался один из казаков.
– Это у них такой обычай. Называется садака – типа подаяний нищим.
– На кладбище?
– Да. Это когда благотворительность завернута в достоинство. У киргизов даже самые нуждающиеся не станут открыто и прилюдно клянчить милостыню. Зато знают, где, не стесняясь чужих глаз, можно найти помощь.
– На обратном пути нам стоит здесь на привал остановиться, – заговорщически подмигнул один другому.
Завершив свой молебен, бай Шукенов поднялся с корточек и, повернувшись в сторону реки, раскинул на высоте плеч руки и громко, как заклинание, прокричал:
– Кеш менi, асыраушым, ?асиеттi Елегiм, айып?а б?йырма! Мен оралам, мiндеттi т?рде, оралам! Сенiн жагалауынды мы?да?ан ан-??с?а толтырамын, Ант етемiн! – (Не осуждай меня, моя кормилица, мой святой Елек! Я вернусь, обязательно вернусь! Я вновь заполню твой берег тысячами животными. Клянусь!)
Эти слова разнеслись эхом, наполняя воздух древней, обетованной силой. Наполненные болью и надеждой, они перекатывались над рекой и растворялись в бескрайних просторах степи. Казалось, даже природа на мгновение замерла, чтобы услышать клятву Баймухамбета. Его жена Абыз смахнула слёзы с глаз и осторожно положила руку ему на плечо.
После церемонии у кладбища Баймухамбет помог супруге взобраться на верблюда, к горбу которого за ручку был подвешен бесик с их, на днях рожденным, уже вторым сыном Кадырбеком, и лишь потом сам вскочил на своего Борана.
В это время по протоптанной вдоль реки дороге с севера начали подъезжать многочисленные подводы, груженные стройматериалами и рабочими. Баймухамбет с недовольством наблюдал, как колеса тяжелых телег оставляют глубокие следы в прибрежной почве. Он задумался: "Вытопчут тут все, скотине питаться станет нечем." Взгляд его скользил по темному горизонту, где когда-то было так много зелени и жизни, а теперь постепенно захватывается пространство, которое его род веками называл своим домом. В его голове крепло ощущение, что ничего хорошего не ждет эту землю.
Правда, землемеры не обманули – здесь вскоре действительно появится маленькая станция железной дороги Оренбург – Ташкент, которая, как уже решили, будет носить название Аккемир. А реку Елек, что протекала рядом, русские делопроизводители переименуют и запишут в своих документах как Илек – так, как им послышалось. Это было просто очередным фактом для них, но для Баймухамбета это значило гораздо больше: это означало, что река, которая когда-то была живым символом, связывающим его народ с предками, станет просто еще одной географической точкой на карте чуждой им империи.
Уже ничто не могло остановить этот процесс. Баймухамбет знал это, и его душу наполняла горечь. Шум и суета рабочих не могли затмить в его сердце твердое чувство утраты.
Баймухамбет заметил, что на одной из первых телег, восседал уже знакомый ему переводчик Исенгалиев. В его треснутом пенсне и полувоенном наряде, с начищенными медными пуговицами, он выглядел почти комично. Но в этом образе было нечто пугающее – человек, который еще недавно был лишь простым помощником, теперь уже становился частью той системы, которая забирает землю у родовитых и справедливых людей, как Шукеновы.
Не замечая взгляда бая, Исенгалиев демонстративно поправил свои очки и молча продолжал наблюдать за процессом.
***
Род Шукеновых, с их многочисленными тысячеголовыми отарами овец, стадами рогатого скота и табунами лошадей, почти неделю добирался в полупустынную степь Шубар-Кудука, где едва хватало жалких и редких кустиков горькой полыни, чтобы прокормить разве что сотню непривередливых верблюдов. Земля была каменистой, неуступчивой, и, несмотря на то что этот край когда-то считался частью их территории, здесь не было ни той влаги, которая позволяла пастбищам расти, ни тех живительных источников, что давали силу животным и людям. Когда наконец они достигли нового места, род Шукеновых почувствовал, что на этот раз река удачи их не поддержит.
В первый же год на новом месте Шукеновы потеряли большую часть своего богатства – скот без корма падал, а бедные земли не могли прокормить даже самых выносливых животных. Овцы, лошади и коровы чахли, умирали от голода и болезней.
Конечно, не все казахи безропотно повиновались выселению. Из глубин бескрайних степей, где еще сохранялись остатки независимости и старых традиций, некоторые батыры, отрицающие власть чужаков, то и дело совершали вылазки, нападая на власть имущих и переселенцев. Эти смелые и отчаянные атаки становились ответом на растущее давление, на попытки силой переселить их с родных земель.
Логично было ожидать, что царские чиновники, встревоженные ростом сопротивления, вскоре запровадят жесткие меры и запретят казахам кочевать, лишив их последней свободы. Отобрали почти все юрты – это было главное жилье чабанов и кочевников, да и вся культура кочевого народа была основана на этой мобильности. Когда их лишили не только земли, но и привычного уклада жизни, последствия оказались катастрофическими.
Без укрытия и возможности перемещаться с местами пастбищ, род Шукеновых, как и многие другие, столкнулся с ужасным мором: скот чахнул от голода и болезней, а сами люди, лишенные надежды, теряли силы и здоровье. Полоса бедствий и разрухи затягивалась, и лишь немногие выжившие могли еще надеяться на будущее.
А потом свершилась революция, и на фоне кровавых бурь гражданской войны старейшины рода Шукеновых приняли решение не вступать в бой. И не потому, что они признали новую советскую власть или пощадили царизм за все принесенные страдания. Нет, причина была более прозаичной и, возможно, трагичной. Род Шукеновых, лишенный своего былого богатства и надежд, терять уже не имел чего.
Сил на сопротивление не хватало, да и средств для того, чтобы бежать в Китай, как это сделали многие другие казахи, у них не было. Этот многотысячный марш через горы и степи стал бы последним для них, оставив лишь смерть и разорение. Никакой борьбы уже не было в их силах.
В такой ситуации старейшины принялись за более рациональный выбор: оставаться и переждать. Жить и дружить с большевиками, петь их песни и по полной использовать все возможности, которые новая власть готова была предложить. Белобородые старцы, пережившие столь много страха и лишений, здраво рассудили, что коллективизация и все, что с ней связано, уже не принесет им ничего хуже того, что они пережили. В конце концов, коллективизация была менее страшной, чем разруха, голод и война. Они начали адаптироваться и мириться с новыми условиями, пусть и не разделяя идеологию, но принимая ее, как неизбежность, спасение.
У бывшего богатого бая Баймухамбета Шукенова, когда-то удачно и выгодно взявшего в жены дочь одного из самых влиятельных султанов Амангазиева, из всех прежних богатств осталась лишь одна, несомненно святая для него вещь – его три сына: Мурат, Кадырбек и Данда. Последний родился уже в изгнании, в мире, который сильно изменился и оставил их семью без прежней роскоши и статуса. Тот старинный мир, где на каждом шагу встречались великолепные кочевые шатры, бескрайние стада и неспешные разговоры о чести и богатстве, исчез. Вместо этого Баймухамбет был вынужден сталкиваться с новой реальностью, где его наследие было почти стерто, а мечты о будущем теперь нуждались в иной форме.
Но, несмотря на все потери и испытания, отец нашел свое утешение в стремлении дать своим детям лучшее из того, что мог. Он больше не видел в богатствах этой земли и в своих стадах гарантию успеха. Все, что оставалось у него в этом новом мире, это желание для своих сыновей построить жизнь, полную знаний. Баймухамбет видел будущее своих детей не в пастбищах и не в руках ремесленников, а в образовании.
Он настоял, чтобы мальчики ходили в русскую школу, обучались языку, литературе и всем тем знаниям, которые были ключом к тому миру, который теперь все больше определял их судьбы. Но этого было недостаточно. Осознавая важность дополнительного образования, отец организовал домашние занятия, пригласив жить в его доме двух учительниц, которых прислали в аул после революции. Эти женщины не только учили его детей, но и стали частью его дома. Денег за их проживание аксакал естественно не брал, он заботился о том, чтобы учительницы чувствовали себя комфортно, и даже кормил их, предоставляя сытные обеды, за которыми охотно следовали уроки и занятия.
Так, после хорошего обеда, под пологом простого, но уютного дома, учителя вели уроки для троих подростков. В атмосфере, где привычный порядок был нарушен, а самобытность прошлого исчезала, Баймухамбет все же находил способы сохранить главное – стремление к свету знаний, к будущему, которое было для его сыновей новым, но обещало гораздо больше, чем любые богатства прошлого.
Шло время. В ауле был создан совхоз. Выполняя жестокие планы по мясозаготовкам, новая власть начала систематически отбирать скот у местных жителей, загоняя его в окрестности железнодорожной станции Шубар-Кудука. Здесь, в душной, пропахшей кровью и мясом атмосфере, скот убивали, разделывали и, погрузив в вагоны, отправляли свежее мясо в Москву и Ленинград. Эта политика, словно безжалостный механизм, пронизывала всю жизнь местных людей, разрушая их прежний уклад и вырывая корни из земли, на которой они жили.
Для казахских детей того времени смерть животных стала неотъемлемой частью жизни еще до того, как они научились ходить. В тех домах, где не было взрослых мужчин, а обед не мог обойтись без мяса, казашки находили выход. Брали в свою руку ладошку младенца, пусть даже грудного, и, сжимая его маленькие пальчики, заставляли его, как могли, держать нож. С его помощью они перерезали шею курице или отсекали голову барашку – жестокая, но необходимая практика для выживания в условиях, когда жизнь, казалось, не ставила вопроса о гуманности.
Не обошло стороной это и братьев Шукеновых. Подросших мальчиков, как и многих других подростков, первых привлекли к работе на мясобойне возле станции. Они стали свидетелями того, как вся их земля превращалась в механический процесс, где из людских бед и животного страха готовилась еда для чужих городов. Мир детства уходит в прошлое, а на смену ему приходят резкие запахи крови, свист ножей и машинный ритм разделки. Это было не только их испытанием, но и моментом, когда они ощутили, что часть их родной земли и культуры поглощена жаждой торговли и власти.
Со своим ремеслом они справлялись превосходно, будто родились с этим навыком. Каждый резкий, точный удар ножа или топора был отточен до совершенства, и, несмотря на свою юность, братья Шукеновы не ошибались в движениях. Но было в их трудах нечто отчаянное, обреченное. Глубокое понимание того, что их усилия тщетны, что все, что они делают, сойдет на нет – все это порождало в их сердцах зловещую предчувствие. Они были всего лишь маленькими винтиками в огромной машине, которая не спрашивала о их судьбе.
– Какие-то безголовые эти городские! – с досадой щурясь на яркое весеннее солнце, говорил Данда, глядя на вагон, в котором они трудились. – Они никогда так не довезут мясо до столицы. Разве что эшелон червей доедет.
Скользя по залитому кровью полу товарного вагона, он с братьями загружал свежие части туш говядины, стараясь прикрывать их сухой соломой, чтобы хоть немного сохранить их свежесть. Но его раздражение не проходило.
– У нас даже дети знают, что мясо без обработки за сутки испортиться может, – нервничал он, понимая, что мясо, несмотря на все их старания, будет отправлено в такой путь, который обречет его на порчу.
Мурат, старший из братьев, крепко взял топор и, не обращая внимания на бурю недовольства в голосе младшего брата, протянул ему инструмент.
– Руби! – резко сказал он. – И помалкивай! Наше дело тут маленькое. Мы тут просто выполняем свою работу.
Данда яростно взял топор и, на мгновение обдумав слова, продолжил свой протест:
– А я не буду молчать! – проорал двадцатитрехлетний парень, словно обрушивая на своих братьев всю тяжесть своих мыслей. – Это же просто вредительство получается. Пойду и растолкую начальству.
Его голос эхом отдавался в вагоне, но ни один из рабочих не обратил внимания на его гнев. Они все, как и он, понимали – любые попытки изменить ход этого безумного процесса, поправить, что-то исправить, будут бессмысленны. Жизнь, казалось, перестала быть чем-то осмысленным и понятным.
Воткнув топор между ребер коровьей туши, Данда, не колеблясь, ринулся в сторону управления. С каждым шагом его сердце билось быстрее – в его груди горело желание донести правду до тех, кто, казалось, совершенно не заботился о том, что происходило на самом деле.
– Кто здесь главный? – с решимостью спросил парень, заходя в небольшое помещение при вокзале, где от серой повседневности пахло выгоревшими бумагами и старым табаком.
За столом, сгорбленный и поглощенный своими делами, сидел пожилой мужчина, чьи глаза с трудом поднимались от кипы бумаг.
– Че хотел? – произнес он, не отрываясь от работы, словно это было самое привычное занятие в его жизни.
Данда не стал терять времени и приступил к делу:
– Да дело тут такое. Вот мы мясо грузим, а оно ведь до Москвы не доедет… пропадет, – с легким раздражением на лице добавил он.
– Че, самый умный что ли? – откликнулся тот же голос, но уже с намеком на недовольство.
– Да не дурак вроде! Я школу с отличием закончил. Просто мы – животноводы. Наша семья раньше тысячеголовые отары и стада имела. Если сейчас это мясо не просушить, то в Москву приедут черви, – настойчиво проговорил Данда, чувствуя, как закипает его гнев от такого равнодушия.
Другие электронные книги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Другие аудиокниги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Чужбина




 0
0