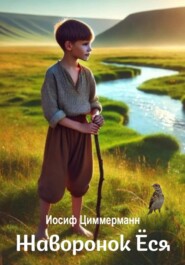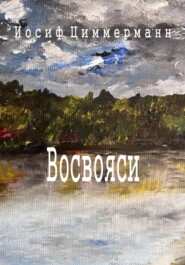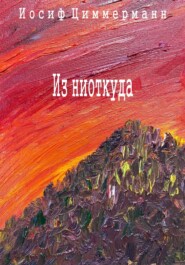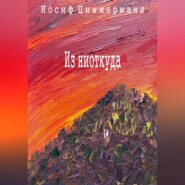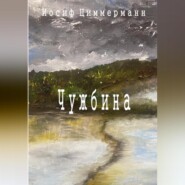По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Амалин век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поселение, куда их привезли, поражало оживлением. Повсюду возвышались аккуратные деревянные дома, построенные наспех, но с тщанием. Две церкви, католическая и лютеранская, символизировали единство в разнообразии. На берегу Волги еще пахло свежим раствором у достраиваемой кузни из дикого камня.
Для Вольфганга этот момент оказался судьбоносным: его здесь ждали. Староста с ходу предложил ему первую работу – изготовить вывеску для деревни. С трепетом и гордостью кузнец принялся за дело. Каждая готическая буква, накаленная до багрового свечения, была вложена в доску с любовью к своему ремеслу. Когда вывеска "Dorf M?ller" заняла свое место на границе села, она привлекала внимание всех, кто пересекал ее рубеж, восхищая своим искусством.
Теперь Шмидтам предстояло освоиться в этом новом мире. Здесь, на восточных склонах Приволжской возвышенности, соседствовали и уживались католики, лютеране, меннониты и баптисты. Все они были выходцами из разных уголков Германии: Баварии, Изенбурга, Дармштадта, Саксонии и Ганновера.
Вольфганг, глядя на суету вокруг, чувствовал, что жизнь начинает обретать новый смысл. Они не просто спаслись от беды, они стали частью чего-то большего – сообщества, где каждый день рождались надежда и вера в будущее.
На зависть соседним русским деревням село Мюллер процветало и словно дышало упорядоченной жизнью. В его лучшие годы здесь имелось все, что могло сделать обитателей независимыми от внешнего мира: частная школа и министерское училище давали детям будущее, врачебный и ветеринарный пункты заботились о здоровье людей и скота.
Ссудо-сберегательная касса предлагала жителям финансовую поддержку, а Gasthaus – уютный поселковый трактир – служил местом встреч и досуга. Гордостью села была маслобойня и редкое для российской глубинки чудо техники – паровая мельница М. Кауфмана, ставшая символом прогресса и предприимчивости.
Каждую пятницу в Мюллере оживали базары. Их гул притягивал купцов, крестьян и ремесленников из ближних и дальних окрестностей. Лавки предлагали все, что душе угодно: ткани сарпинки, кожаные изделия, изящные вязанные вещи, искусную столярную мебель и добротные кареты.
Село словно впитало в себя немецкую любовь к порядку и труду, став островком благополучия среди бескрайних приволжских просторов.
***
Спустя почти полтора века полуслепой старик Адольф Шмидт горько жалел о решении своего прапрадеда покинуть Германию. Легенда о красавице Ингрид и зловещем бароне фон Каленберге давно канула в лету, уступив место новым, куда более мрачным страницам семейной истории.
Летом 1914 года дорфауфзеер на сходе жителей села Мюллер объявил, что конфликт между Австрией и Сербией обернулся мировой войной, втянув в нее и Россию. Вскоре антинемецкая истерия охватила страну. Царское правительство запретило немецкие собрания, организации и прессу, а заодно наложило табу на немецкий язык в школах, документации и даже в быту. Говорить на родном языке стало преступлением. Село Мюллер отныне значилось на карте как “Кривцовка”.
Однако, несмотря на все запреты, немцев все же послали на фронт. Только в окопах, среди взрывов и смертей, они могли, не опасаясь наказания, выкрикнуть проклятие от боли или прошептать молитву перед смертью на своем языке. Поле боя стало для них единственным убежищем родной речи.
На фронт отец Адольф уже не годился, а младший сын, Николаус, был еще слишком юн. В армию призвали старшего сына семьи Шмидт, Франца, едва успевшего вступить в брак.
Адольф, полуслепой старик с тяжкой ношей утрат и горечи, проклинал все подряд. Но на этот раз его проклятия были адресованы не прапрадеду, оставившему родные земли Германии, а покойному отцу.
– Почему ты тогда нас отсюда не вывез? – стонал он у надгробия на кладбище. – Ведь сам царь дал нам на это право. А теперь твой внук идет на войну!
Адольф говорил об Указе Александра II от 4 июня 1871 года, который отменил все привилегии немцев-колонистов, дарованные им еще Екатериной II. Этот закон ввел обязательную воинскую повинность для переселенцев, но при этом позволял тем, кто с этим не согласен, покинуть Россию в течение десяти лет.
Старик, как и большинство немецких колонистов, воспитывался в духе патриотизма и видел в службе на благо России почетный долг. Но, когда война коснулась его собственной семьи, Адольф не мог справиться с обидой и страхом. В такие моменты он особенно остро сожалел, что сорок пять лет назад их семья не последовала за баптистами и меннонитами, уехавшими в Аргентину, где их вера и жизнь могли бы быть свободны от оружия и насилия.
Франц Шмидт был тем, кого в селе называли завидным женихом. Высокий, статный, с уверенной улыбкой и горящими глазами, он заставлял замирать сердца местных красавиц. Девицы тайком писали ему любовные записки, подолгу задерживались у колодца, надеясь встретить его, и даже пекли пирожки, лишь бы как-то привлечь внимание. Однако, как и бывает в жизни, любовь оказалась не только слепа, но и коварно несправедлива.
Франц выбрал для себя вовсе не ту, о которой мечтали все соседские парни. Его избранницей стала Мария, дочь владельца маслобойни. Невысокая, с простой внешностью, без особых даров красноречия и изящества, она вызывала у соперниц лишь тихий ропот.
– Ну что он в ней нашел? – шептались на базаре.
– Да это же расчет, – уверенно утверждала одна из отвергнутых красавиц.
Адольф Шмидт с женой были только рады такому выбору. Отец философски рассуждал:
– Зачем идти к благосостоянию терновым путем, если можно, как по маслу, прямо к цели?
Поздней весной Франц и Мария обвенчались. Храм был полон, но вместо благословений и молитв народ потихоньку шушукался:
– Как же она до его губ дотянется? Табуретку не забыла взять?
– Или кастрюлю! Наденет на голову Францу, подтянется…
Свадьба прошла под аккомпанемент злых языков, а счастье молодоженов оказалось коротким. Война, как жестокий ветер, вырвала Франца из жизни. Он пропал без вести, и весть о его гибели сломила семью.
Мария, двадцатилетняя вдова, осталась одна в новом доме, на чужой земле. Она не знала, как поступить: оплакивать мужа, которого едва успела узнать, или пытаться двигаться дальше. Лишь настойчивые уговоры свекрови заставили ее надеть траурное платье. Только тогда Мария расплакалась, но не по Францу – ее слезы были о себе, о жизни, которая снова обманула ее надежды.
Родители Марии, спасаясь от притеснений, уехали в Америку, оставив ее одну. Когда положенный год траура подошел к концу, старик Адольф принял решение:
– Ты выйдешь за Николауса.
Младший сын, сидевший за столом, чуть не поперхнулся от неожиданности. Мать, зная привычки мужа, лишь похлопала сына по спине, успокаивая. А Мария облегченно вздохнула и поспешила в свою комнату снять траурное платье.
За закрытой дверью она слышала, как свекор и Николаус спорят. Слова терялись за гулом мужских голосов, но ей было не до этого. Главное, что появилась надежда и свет. Николаус же, у которого еще не было невесты, чувствовал, что его лишили чего-то важного. Это чувство, словно крошечная заноза, останется с ним навсегда.
А Мария, довольная своим будущим, уже пригласила в дом пожилую швею Эмму Лейс. Свадебное платье от первого брака следовало перекроить – жизнь давала ей второй шанс, и она не собиралась упустить его.
Нелюбимая, нелюдимая и неграмотная Мария, ко всеобщему удивлению, через два года после второго замужества родила сына. Николаус, который старался избегать близости с женой, был ошеломлен. Ведь, казалось, единственные их совместные ночи случались лишь тогда, когда он возвращался домой навеселе.
Но стоило ему впервые взять на руки крошечного наследника, как в сердце неожиданно возникло приятное покалывание, а в душе разлилось теплое, непривычное чувство. В тот миг Николаус не только простил отцу его брачный деспотизм, но даже ощутил благодарность. Ведь в его руках сейчас билось маленькое сердце, частичка его самого.
С того дня Николаус понял, что готов до последнего вздоха жить ради этого ребенка, защищать его и любить. Он сам выбрал сыну имя – Давид, древнее имя, означающее у греков и евреев одно и то же: "любимец".
Мария же, казалось, не испытала к ребенку ничего. Тяжелые роды выжгли из нее все силы, оставив вместо нежности лишь горькую усталость. Да и сам Давид напоминал ей о мужчине, который никогда не смотрел на нее с любовью.
Николаус был чем-то похож на своего брата Франца, но Мария сразу заметила различие. Франц, пусть и недолго, но смотрел ей в глаза, целовал ее руки, гладил по щеке. Николаус же был совсем другим. Сыновья Адольфа Шмидта словно разделили между собой роли: если Франц был нежным с женой, то Николаус всю свою любовь теперь дарил только маленькому Давиду.
И эта любовь, которую она сама никогда не удостоилась, заполнила сердце Марии горькой, безумной завистью. Каждое его прикосновение к сыну, каждый взгляд, полный отцовской нежности, словно заново напоминали ей о ее ненужности, о том, что ее существование для мужа – лишь неизбежное следствие чужой воли.
***
В младенческом возрасте, Давиду исполнилось всего два года, он однажды, как бы следуя своей наследственной тяге к ремеслу, в кузне схватил маленький молоток. Его пухленькие ручки крепко обхватили рукоять, и, визжа от восторга, малыш начал стучать по металлическому пруту.
– Давай, Давидхен! Бей, Давидушка! – оглушительно кричал Николаус, весь сияя от гордости. Его голос разносился так далеко, что, казалось, его могли услышать на другом берегу Волги. – Пусть каждый Шмидт в своем гробу почувствует силу подрастающего кузнеца!
К десятилетнему возрасту Давид уже выделялся среди сверстников. Сын кузнеца, он, как и отец, был широкоплечим и сильным, что вкупе с его румяным лицом делало его похожим на живой квадратный пряник. Даже его ладони были прямоугольными и твердыми, словно боек молота.
В этом возрасте он уже освоил амбосс – тот самый, который почти полтора века назад Вольфганг Шмидт вывез из Германии, рискуя жизнью. На нем Давид впервые самостоятельно отковал гвоздь для подковы.
Соседские мальчишки обожали проводить время с Давидом. Он был справедливым, без заносчивости, с добрым нравом. Его товарищи ценили не только веселый характер, но и то, что он всегда был готов защитить их: то ли от своры злых дворняг, то ли от подростков с соседней улицы, пытавшихся доминировать в детских разборках.
Единственным, чем Давид не мог похвастаться, был рост.
– Это тебе от матери досталось, – говорил Николаус с легким упреком, когда замечал, как сын тянется вверх, в тщетной попытке догнать своих более высоких ровесников. – У Шмидтов мужчины всегда были рослыми. Твой дядя Франц, к примеру, был как минимум на голову выше любого односельчанина.
Давид, затаив дыхание, слушал отца. Это был первый раз, когда он узнал, что у него был дядя. Погибший на поле боя Франц внезапно превратился для мальчика в невидимого героя, чей образ еще долго будет вдохновлять Давида на новые свершения.
Подрастающий Давид радовал Николауса, наполняя его жизнь светлыми моментами. Мальчик рос крепким, смышленым и трудолюбивым, словно воплощая все лучшие черты, которые кузнец надеялся передать своему потомку. Но радость отцовства не могла заполнить пустоту, что словно черной тенью окутывала Николауса, когда заканчивался день.
Когда Давид на закате солнца уютно устраивался в своей постели и погружался в мир детских снов, его отец оставался один. Дом, где некогда шумно звучали голоса большой семьи, теперь был тих и мрачен. Сын не мог заменить Николаусу все то, чего требовала жизнь взрослого мужчины. Нужда в понимании, тепле, разделении тягот дня с кем-то близким становилась болезненной.
Другие электронные книги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Другие аудиокниги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Чужбина




 0
0