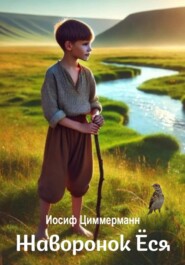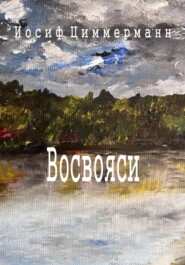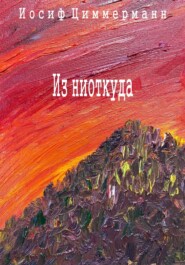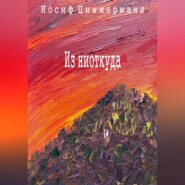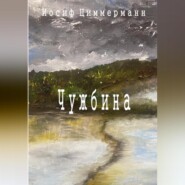По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Амалин век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Затем, закурив папиросу и накинув полушубок, он вышел в сени, даже не взглянув на пасынка.
Мария растерянно посмотрела на сына. Она молчала, но в ее взгляде читалось бессилие. Один тяжелый вздох дал понять, что она в этом доме ничего не решает.
Давид почувствовал горечь, но не позволил себе показать это. Он хотел было обнять мать на прощание, почувствовать тепло ее рук. Однако, вместо этого, как-то неловко похлопал ее по плечу.
– До свидания, – сдержанно проговорил он и вышел на улицу.
Застоявшийся и продрогший конь рысцой понес сани прочь от дома, некогда дорогого сердцу юноши. Давид чувствовал, как холодный ветер пробирается под воротник, но не мог отвести взгляд от дома, постепенно исчезающего вдали.
Через несколько минут он достиг берега Волги. Небо над ним сияло тысячами звезд, словно кто-то рассыпал драгоценные камни по бархатной черноте. Мягкий свет полнолуния отражался в белоснежных сугробах, создавая впечатление, будто ночь сама по себе светится. В такую зимнюю ночь можно было видеть на километры вперед – вся округа лежала перед ним, как на ладони.
И вдруг тишину прорезали выстрелы. Конь, испуганно всхрапнув, рванул вперед, и сани в мгновение ока вынесло на заснеженный лед реки. Давид резко оглянулся на шум – за его спиной, где-то в стороне села, раздался гогот пьяных комсомольцев.
И тут, словно вторя хаосу, с берега послышался сердечный девичий вопль:
– Vater, was hast du uns angetan?! (Отец, что же ты с нами сделал?!)
Давид натянул вожжи, и конь послушно остановился, утопая голенями в рыхлом снегу. Юноша, не раздумывая, соскочил с саней и поспешил к тому месту, откуда доносился крик.
Подойдя ближе, он различил под голым ветвистым деревом четыре укутанные в темные одежды фигуры. Они стояли молча, как статуи.
– Что случилось? – спросил Давид по-немецки, стараясь говорить мягко, чтобы не напугать их. – Могу я вам помочь?
Ответом было лишь приглушенное всхлипывание.
– Амалия? – пригляделся Давид, узнав одну из девушек. Это была швея, которую он видел пару раз раньше. – Я Давид, сын кузнеца. Ты как-то помогла моей маме перекроить платье.
Девушка подняла голову, глаза блестели от слез.
– Добрый вечер, Давид, – едва слышно отозвалась она, дрожа всем телом.
– Какой к черту добрый?! – возмутился он, шагнув ближе. – Что вы здесь делаете, на таком морозе?
Амалия. Вскрик над Волгой
К нам обернулась бездной высь,
И меркнет Божий свет…
Мы в той отчизне родили?сь,
Которой больше нет.
Борис Чичибабин
День рождения Амалии выпал на жаркий понедельник, 19 сентября 1910 года – этот факт ее мать любила вспоминать всю жизнь.
Накануне, несмотря на запрет своей строгой матери-католички Анны-Розы, Мария-Магдалена отправилась со свекровью на богослужение в лютеранскую церковь в приволжском селе немецких переселенцев Мюллер. Пастор убедил беременную женщину, что ей не только можно, но и нужно бывать в Храме Божьем, чтобы благодарить Всевышнего за дар новой жизни, чье сердце бьется у нее под сердцем.
А уже на следующее утро, в начале трудовой недели, Мария-Магдалена разрешилась. Кажется символичным, что новорожденную назвали Амалией – ведь это древнегерманское имя означает «трудолюбивая». Однако история имени оказалась куда запутаннее.
Бабушка, Анна-Роза, настаивала на том, чтобы девочку назвали католическим именем Амалия. Ее зять Георг, убежденный лютеранин, не стал спорить. Он был уверен, что имя выбрано в соответствии с церковным календарем имен святых и покровителей. «Что ж, имя хорошее», – подумал он, и вопрос был закрыт.
Но Анна-Роза видела в этом имени нечто большее. Почти через два десятилетия, на смертном одре, она призналась своей внучке в тайне. Священник католической церкви однажды рассказал ей другое, латинское значение имени Амалия – «достойный противник».
Анна-Роза не могла простить своей дочери Марии-Магдалене ни брака с лютеранином Георгом Лейсом, ни ее отступничества от католической веры. Но она видела в Амалии шанс все исправить. Воспитание внучки в католическом духе стало для нее личной миссией. Ради этого, овдовев, она нашла повод переселиться в дом зятя-лютеранина, надеясь, что время и ее усилия сделают свое дело.
Мать Георга, Эмма, возможно, догадывалась о планах своей сватьи, которая особо и не пыталась их скрыть, но всерьез их не воспринимала. Проповедник лютеранской церкви уверял: согласно догматам, католик мог стать евангелистом (так официально называют протестантов-лютеран), но обратный переход был невозможен. Поэтому Эмма совершенно спокойно отнеслась к тому, что ее сын взял в жены католичку.
К тому же, сама того не осознавая, Эмма придерживалась весьма либеральных взглядов, даже не зная такого слова. Задолго до свадьбы любимого сына она во всеуслышание заявила, что примет сноху любого рода и вероисповедания:
– Даже если это будет женщина из киргизских степей или из заморской Японии. Лишь бы она сделала Георга счастливым.
Более того, Эмма была готова смириться даже с худшим, по ее мнению, вариантом – если бы сын женился на русской.
– Упаси, конечно же, Господь! – молилась она, едва представив такое. Ведь в таком случае Георгу пришлось бы не только покинуть родительский дом, но и уйти из немецкого села.
Царские законы для переселенцев были строги: колонисты давали клятву соблюдать их, ступая на русскую землю. Одним из таких законов запрещалось склонять православных к переходу в другую веру под страхом сурового наказания. Принуждать к крещению мусульман, напротив, разрешалось, а православных – ни в коем случае.
Эмма никогда не слышала о смешанных русско-немецких семьях, да и ее родители тоже. Но она догадывалась, что если бы Георг женился на русской, ему пришлось бы перейти в православие. Жить с русской женой и оставаться лютеранином было немыслимо в те времена: венчание и крещение детей допускалось только при единой вере обоих супругов и их семей.
Честно говоря, при всем своем "либерализме" Эмма облегченно вздохнула, когда Георг привел в дом всего лишь католичку. Тем более, что Мария-Магдалена сама изъявила желание перейти в лютеранство. А когда выяснилось, что она к тому же оказалась доброй, трудолюбивой и чистоплотной снохой, Эмма убедилась окончательно: вероисповедание – это не главное. Оно должно помогать людям жить и любить, а не возводить преграды на их пути.
Дед Амалии, Иоганн Лейс, был человеком редкого мастерства: хлебороб, плотник, каменщик, а на старости лет увлекся еще и виноделием. Именно он спроектировал и собственноручно построил дом, где позже родилась Амалия. Это был добротный, четырехкомнатный дом, выложенный из дикого природного камня и покрытый деревянной кровлей.
За домом находились большой амбар и просторный хлев для домашнего скота. Хозяйский огород простирался до самой реки, на сто метров, усеянный бесчисленными грядками и несколькими яблонями. У самого берега, на высоком склоне, Иоганн еще в расцвете своих сил вырыл просторный погреб.
Этот погреб был настоящим шедевром, разделенным на три части. Первая – ледник, где круглый год хранились многокилограммовые куски льда, заготовленные зимой на реке. Вторая – овощное хранилище. А третья – небольшое сводчатое помещение, выложенное из того же природного камня. Здесь, как говорил сам Иоганн, происходило «дозревание» его самогонного вина.
Иоганну завидовали не только соседи-колонисты. Русские крестьяне из ближайших деревень специально приезжали, чтобы полюбоваться на его мастерство и перенять опыт. Его сооружения, будь то дом или погреб, стали предметом восхищения и символом трудолюбия и находчивости настоящего немецкого мастера.
Семья Лейс была большой и дружной. После Амалии на свет появилось еще пятеро дочерей: Мария, Эмилия, Рената, Роза и Анна. Девять женщин и один мужчина. Не жизнь, а малина! Усилиями многочисленного женского состава в доме Лейс всегда царили чистота и порядок. Каждый домочадец был накормлен, одет и ухожен.
Погреб и чердак ломились от запасов: мясо, шпик и копченая колбаса, вяленая рыба, топленое свиное и сливочное масло, варенье и соленья, сушеные фрукты, ягоды и грибы – все было припасено с любовью и тщанием. В сундуках аккуратно хранились мотки пряжи и бесчисленные отрезы ткани, которые могли бы обеспечить одеждой не одно поколение.
Работа на поле – пахота, сев и жатва – ложилась почти полностью на плечи Георга. Он справлялся с этим стойко, хотя время от времени ему помогали женщины. В их амбаре никогда не было пусто: закрома были до краев заполнены зерном, мукой, фасолью и кукурузой.
Однако мысли о том, чтобы завести еще одного ребенка, вызывали у Георга тревогу. Он считал, что и так несет немалый груз ответственности. Поэтому, узнав, что Мария-Магдалена снова ждет ребенка, он был скорее озадачен, чем рад.
Но Бог в этот раз подарил Георгу то, о чем он, возможно, мечтал, но не смел надеяться: долгожданного сына. Мальчика назвали Мартин.
– Дети – не картошка, и зимой растут, – говорил теперь уже обрадованный отец, с гордостью глядя на младенца. Георг знал, что не за горами то время, когда сын подрастет, станет его опорой и продолжателем рода.
Амалия хорошо помнит, как они с бабушками готовили для новорожденного брата старую колыбель-качалку. Хотя, что там говорить, готовили? Просто протерли люльку да постелили свежевыстиранные пеленки. Эта колыбель почти не успевала запылиться или рассохнуться – дети в семье появлялись на свет каждые полтора-два года.
Бабушка Эмма не уставала рассказывать историю качалки. Ее прадед, едва обосновавшись на берегах Волги после переселения из Саксонии, вырезал эту люльку из прочного дуба. С тех пор, на протяжении полутора столетий, она неизменно служила новым поколениям их рода.
Амалия знала качалку до мельчайших деталей. На боках были вырезаны затейливые деревца, царственные птички и лазурные цветочки. В изголовье сияло ярко-красное солнышко, а в ногах – полумесяц, окруженный звездами. На каждой стенке красовались резные ангелочки, будто охраняющие сон младенца.
Другие электронные книги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Другие аудиокниги автора Иосиф Антоновч Циммерманн
Чужбина




 0
0