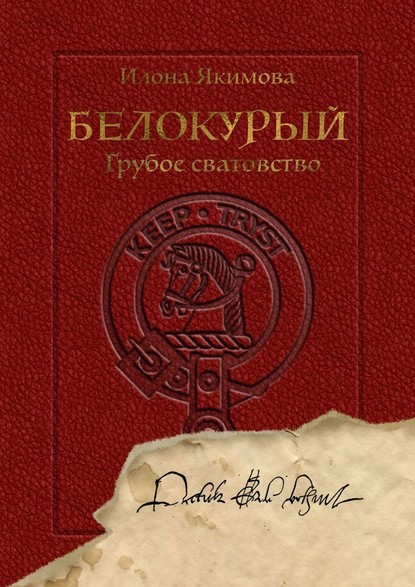По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белокурый. Грубое сватовство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я стою с вами, Босуэлл, не потому, что мне по душе смута против законной власти – ибо власть, признанная Тремя сословиями, законна, даже если речь идет о моем брате, который, видит Бог, не самым лучшим образом пригоден для ее исполнения… Я стою против нарушения свобод Шотландии и попрания прав нашей государыни – что совершается моим братом ежечасно, начиная от богомерзких реформистских проповедников возле него, заканчивая преступным предложением о помолвке нашей королевы и принца Тюдора. И ежели вы, прикрываясь благими целями, тем не менее, ищете не правды, но личного возвышения – я вам не помощник.
Приор Пейсли изрядную часть жизни провел во Франции, оттого его шотландский был мягок, небезошибочен и обильно украшен французскими вставками – должно быть, подумалось Белокурому, сердце Марии де Гиз тает, когда она разговаривает с ним. Этот способ воздействия тоже можно учесть.
– И вы могли предположить, приор, – мягко вступил Брихин, – что нами движут столь низменные устремления?
– Вами? – переспросил Гамильтон, остро взглянув на епископа. – Вами – возможно, нет, но репутация вашего кузена епископа Морэя говорит сама за себя. Если бы не уговоры Хантли и ручательства моего брата Клидсдейла, я бы не встал на одно поле с приором Сент-Эндрюса.
Даже название приорства Морэя он произнес так, словно выплюнул нечто гадкое.
– Я вполне понимаю вас, – сердечно улыбнулся Джон, – но согласитесь и вы: даже самые заблудшие души внимают голосу правды в час раскаяния.
– Положим, для Морэя он не наступит и в Судный день, – отрезал Пейсли. – А вы что скажете, Босуэлл? – обратился он к до сей поры молчавшему Белокурому. – Зачем это дело вам? Особенно вам, известному своей приверженностью к английским кронам?
Тут полагалось возмутиться. Но офранцуженный приор еще не имел дела с бесстыдством настоящего рейдера.
– Моя приверженность английскому золоту, дорогой приор, – отвечал Патрик, ничуть не обидевшись, – известна только со слов Его покойного величества, Джеймса Стюарта, не так ли? Со слов того самого человека, который утверждал, что Джеймс Гамильтон Финнарт – предатель, лжец, убийца, изменник королю и королевству…
Лицо Джона Гамильтона побурело от прилива крови, но он не успел возразить.
– Из всех ваших братьев, приор, – веско продолжил Босуэлл, – не считая моего зятя, я более всего ценил старшего… и, честное слово, мне не по нраву регент. Я в этом деле затем, чтобы граф Арран не забывал, кто он есть – только первый подданный нашей королевы, не более того… на том стоим мы, бароны Приграничья Шотландии!
Церковь Святого Джона возносилась к небу уже почти триста лет к моменту, когда под своды ее вступили, громогласные и бранящиеся, мятежные лорды; отец Мартин, местный священник, полный возмущения, требовал, дабы надменные графы обнажили головы в доме Божьем, но более всего наседал на Аргайла – брызжа слюной ненависти к его гордыне и указывая на белых собак на сворке, вместе с которыми Гиллеспи Рой Арчибальд переступил порог и неторопливо двинулся в первые ряды паствы. Но Аргайл сдвинул брови и взглянул на старика в упор одним из тех прозрачных взглядов, от которых у людей, хорошо его знавших, шел холодок по хребту:
– Собаки – такие же твари Божьи, как мы с вами, спросите-ка об этом Святого Франциска, вы, преподобие! – отрезал он. – Им так же положен рай, как и всем прочим – а то и более, чем некоторым человечьим отребьям… Тролль, Фрейя, вперед, детки мои!
Толпа почтительно расступилась, когда Бурый волк со своими чудовищами проследовал вперед, к алтарной части, где и встал, расставив ноги, руки на поясе, а псы мирно улеглись у его ног, вывалив розовые языки, тяжело дыша. Отец Мартин сыпал проклятьями до тех пор, пока островитяне Аргайла не унесли его прочь, дабы бережно запереть в хлеву соседнего дома.
Первым говорил Уильям Гордон, епископ Абердина – крепкий, как древесный корень, выдубленный ветром предгорий, высушенный виски и внутренней желчью. Желчью он и поливал с амвона изменнические поступки Аррана в адрес Матери-Церкви, вопрошая, может ли быть блудный сын, сын нераскаявшийся – добрым отцом? Тот, кто предал веру свою, может ли быть отцом малютке-королеве и государству? За ним взял слово епископ Морэй, и все прошло вполне удачно, хотя бы потому, что из уважения к большому числу родственников в публике Патрик Хепберн Бинстон вышел на проповедь почти трезвым и говорил мягко, без уничижительных выпадов в сторону паствы, какие он позволял себе дома. Напротив, был похож на доброго дядюшку, взывающего к неразумным детям, и скорбно сетовал на гордыню регента, не позволяющую тому прислушаться к совету стольких достойнейших лордов, ныне собравшихся под мирной кровлей церкви Святого Джона… ибо гордыня ведет грешников в ад, где тело их в вечности пожрут ядовитые змеи, и выпьют их глаза, и пробуравят жалами печень. Гордыня – вот корень всякого зла и порока, изведем же ее! Морэя под белы руки сняли с возвышения двое его незаконнорожденных сыновей от жены сент-эндрюсского кузнеца и под сочувственные возгласы простого люда поместили в паланкин, дожидавшийся снаружи. Но подлинным голосом восстания, его проповедником и пророком, был, конечно же, Джон Хепберн, епископ Брихин… Как он говорил, мой Бог! Пласты небесного пламени слетали с его языка – и тихие голуби умиротворения. Стоя в первых рядах, Босуэлл промокнул глаза манжетой сорочки, чтобы только не рассмеяться в голос.
Джон Брихин выбрал для обращения к пастве стих из Евангелия от Иоанна: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными», и возвел на нем стройное здание метафор, и при том был прост и понятен каждому пехотинцу Сазерленда, каждому островитянину Аргайла. Патрику еще не доводилось видеть младшего дядю в таком воодушевлении – если не считать Коугейтской резни. Что есть истина, вопрошал епископ у смущенных прихожан, и слепы ли те, кто не видят ее, или больны духовно? И сам отвечал: свет истины в том, чтобы во дни смуты отделять правых от виноватых, подлинное от ложного, здравое от извращенного. Свет истины в том, чтобы держаться устоев предков, оборонять свободу страны, сколь бы ни было соблазнительно искушение южного соседа, извечного врага. Свет истины в том, чтобы хранить верность – сердцем и душою – тому, кому приносили оммаж, и имени его, и семени его… Истина чиста и доступна каждому, и не прячется в одеждах из украшательств, и не просит снисхождения к своей слабости, и не ищет себе оправданий. Истина торжествует там, где гаснут прочие светильники, где ржа переедает любой меч. Узрите истину – и никто не опутает вас сетями лжи, ведущей к погибели, и станете свободны и в этом мире, и в том…
Как причудливо играет кровь, думал Босуэлл, глядя, как сияют его глаза, как свет озаряет лицо епископа Брихина при этих словах – свет подлинного прозрения, гласа Божьего. Когда инстинкт убийства, и жажда власти, и плотский голод, и железная воля, словом, все, из чего состоит пылкий дух Джона Хепберна, не могут найти себе выхода в границах разрешенной действительности – они куют из человека святого там, где в иных обстоятельствах он был бы сочтен дьяволом. Из чего слагается святость? И что мы понимаем под этим словом? Как точны его жесты, подчеркивающие изящество речи, как волшебно подвижен голос, берущий за душу… он смотрит на толпу так, словно видит каждого, и к каждому обращается лично, сердечно. Когда Джон Хепберн, с быстротой, несвойственной сану, но еще уместной по возрасту, спускался по стоптанным ступеням старой церкви Святого Джона, блаженные благословляли его и женщины целовали руки – как праведнику, как подлинному пророку.
На паперти старой церкви, под сенью голых ветвей спящего по весне пустого сада, лорды также говорили о своем – языком не церковным, но светским. Граф Морэй, морщась и держась за бок, рассуждал долго, ибо по дороге до обвинений Аррану Джеймс Стюарт дважды отвлекся на изложение побочной кровной вражды. Сазерленду, крайне воодушевленному, граф Хантли, тем не менее, предложил придержать язык. Сам Хантли, по деловым ухваткам которого было видно, что покойный король не зря оставлял Джорджа Гордона на регентстве, был занят тактическими и хозяйственными распоряжениями по войску, предоставив выражать чувства тем, кто этого жаждал более всего, а именно – Джону Гамильтону Пейсли. Приора слушали добрый час, и с ним соглашались, несмотря на снег, перешедший в дождь, а после заговорил Бурый волк. Аргайл выступил кратко:
– Сассенахов вон из страны! И Аррана – в шею из Холируда, если в нем духу нет стоять за исконные свободы Шотландии! – и процедил сквозь зубы фразу, которая всегда являлась у него выражением благодушного неодобрения на грани с угрозой. – Плетей давно не получали…
Островитяне и горцы стучали рукоятями мечей по баклерам в знак восторга, хотя граф говорил на нижнешотландском, и добрая половина его клансменов вряд ли поняла, о чем идет речь.
Босуэлл же выразился еще кратче Аргайла:
– За королеву и Шотландию – вперед, ребятки!
Это он проорал уже с седла, подняв гнедую на дыбы, и дружный вой, свист, улюлюканье рейдеров были ему ответом. Мокрый плащ лип к его плечам даже сквозь дублет, противно было до дрожи. Правду сказать, мало кто, как Патрик Хепберн, в этом походе так горячо интересовался королевой и так ничтожно – Шотландией.
Между рыцарем, вступающим в бой за честь своей дамы, и рыцарем, желающим ту честь заполучить, по сути, разницы никакой – ибо тот и другой рассматривают даму как вещь, как приз. Обоим ее чувства безразличны, верней, оба полагают, что ее дело – чувствовать себя польщенной и благодарной. За время похода Босуэлл утвердился в мысли, что королева должна быть счастлива, не иначе, принять его в свою постель – потому только, что он так хочет. Двигаясь из Перта на юг – епископ намеревался за своими делами навестить земли близ Крайтона – дядя и племянник ехали рядом. Давно забытое чувство – быть в седле плечо к плечу с Джоном Хепберном, давно прожитое и напрочь утраченное чувство безопасности, уверенности в напарнике, в родственнике по крови.
Джон Брихин довольно долго мельком поглядывал на племянника, прежде чем заговорил:
– И что ты намерен делать, позволь спросить?
– Вернуть себе свое. А там – как пойдет, – отвечал Белокурый не столь уклончиво, сколь задумчиво.
Четкого плана действий у него до сих пор не было, он, как всегда, шел по наитию, по чутью.
– На первый год задача понятная, – одобрил железный Джон, – но в целом, мелковата. Удивительное время сейчас – каждый может достичь, чего захочет, ибо короля нет… нет короля! Когда у нас последний раз было такое? Во времена Норвежской девы?
– Не помню. Но даю слово, что мне бы подошли любые другие времена попроще, дядя. Ни одного дельного человека при дворе… Рой хорош, но – та еще надежда на оборотня, сам понимаешь. Джорджи прекрасен в своей роли, но и у него есть недостатки. Я, того и гляди, начну жалеть о Джеймсе – как просто и ровно жилось мне у себя на границе, покуда кузен копался в этом дерьме… Но, главное, деньги, дядя… деньги! У меня такой дыры в спорране не было, сколь себя помню – спасибо покойному королю за это, да горит душа его в аду. А, казалось бы, богатство Босуэллов не вдруг пропьешь.
В паузах разговора, когда оступалась на рытвинах дороги гнедая, когда белый жеребец Брихина пробовал чудить, вдохновленный соседством с кобылкой – соприкасались полы плащей всадников, если не плечи их, и краем глаза Босуэлл рассматривал Джона Хепберна, дивясь, когда это успело случиться – середина пятого десятка, чуть впалые щеки, седина на висках, если приглядеться, весьма обильна… только шрам на скуле был на своем месте, загрубевший – повторно – после Коугейта, да серые глаза сияли все тем же ехидным огоньком, что пятнадцать лет назад.
– Не вдруг. Но ты учти, что сундуки не родят кроны сами собой. Пока ты жил здесь, тебе светила счастливая звезда, а последние два года урожай был весьма плох – каждое лето дожди без конца… и никто не водил больших рейдов из Хермитейджа, промышляли мелким разбоем, не пожируешь. Зря ты рассорился с Болтоном…
– Я с ним рассорился?! Помилуй Бог, дядя! Он не простил мне смерти Бинстона, да я и сам себе ее не простил, признаться.
– Как язычники, право слово, будто не христиане, – хмыкнул Брихин. – А Джон Бинстон впервые в жизни наконец-то обрел покой… – было у его преподобия удивительнейшее умение черное вывернуть наизнанку и получить белое. – Дело прошлое. Поезжай в Болтон.
– Нет. Он дважды отказал мне в повиновении, мой кастелян, когда я приказывал явиться в Крайтон. Сделает это в третий раз – будет лишен дарственной на поместье, мне шутить некогда.
– Ну, – железный Джон задержался на племяннике взором чуть дольше, чем обычно. – Пожалуй, он это сделал зря…
– Если желаешь выступить миротворцем, не стану возражать.
– Я об этом подумаю, – решил Джон Брихин. – А ты изменился…
– Ты тоже.
– Я постарел.
Босуэлл бросил в ответ быстрый – и удивленный – взгляд на дядю. Однако честность с самим собой, доходящая до безжалостности, всегда отличала этого его родственника среди прочих. К сорока пяти годам Джон Хепберн, епископ Брихин, окончательно оставил повадки рейдера, хотя его сухое, жилистое тело соперничало с телами молодых в гибкости и силе. Только в скорости проигрывал епископ своим юным слугам, на которых по-прежнему оттачивал навыки владения палашом. И эти ребята могли бы рассказать немало интересного о властном хозяине Брихина, не будь порабощены странной смесью ужаса и восхищения, которую пробуждал железный Джон в неискушенных сердцах. Двое служек, посмевших болтать о делах праведного человека более, чем дозволялось правилами обычной сплетни, бесследно исчезли прежде, чем паства успела хотя бы заподозрить участие Джона в их судьбе – и молва прекратилась. О Джоне вообще в епархии говорить затруднялись, ибо кроме склонности к хорошему столу, миланскому оружию и породистым жеребцам, которых у него была только пара – аскетизм неслыханный – Хепберна упрекнуть было не за что, не в чем найти тему для разговора. Хуже того, епископ не имел слабости к мальчикам, не было у него и никакой известной наложницы, как и признанных им или молвой внебрачных детей. Джон Хепберн у себя дома жил строгой размеренной жизнью, в распорядке почти монастырском, подолгу молился, свободное от хлопот время проводил в библиотеке, исправно занимался делами прихода – с той исправностью, которая обличает весьма малую степень вовлеченности и интереса. В смысле репутации он повторял карьеру своего крестного отца, старого Джона, покойного приора Сент-Эндрюса – ему верили и его любили неимущие и малые, его ценили и уважали в клире, его побаивались сильные – ибо в точности и силе наносимого удара Брихину не было равных, если кому случалось перейти праведнику дорожку. Словом, всё, как любим мы, в нашей семье, мелькнуло у Белокурого в голове.
– Хотел бы я иметь силу твоей старости, – отвечал он младшему дяде.
– Обрящешь со временем, – хмыкнул Джон. – Добывается лишениями, милый мой, утратами и одиночеством. Надеюсь, сила эта дастся тебе не скоро. Твое место при дворе, – продолжал он задумчиво, – в этом сомнения нет. Не вздумай вернуться на Границу раньше, чем отожмешь от своей кормушки чужих свиней. Каждый твой день должен быть шагом к цели…
Он давно уже не давал советов Патрику, предпочитая наблюдать, а вмешиваться – только по просьбе последнего или по собственной прихоти.
– И помни: то, что ты возьмешь сейчас – останется при тебе на годы. Возможно, такого шанса не случится более уже никогда.
И больше Джон Хепберн Брихин не сказал племяннику ничего, что могло бы хоть отчасти отражать его интерес к дальнейшей судьбе главы рода.
Шотландия, Эдинбург, весна 1543
Трижды высылали вперед глашатаев Аргайл и Хантли, уведомляя регента, что требуют его к себе для объяснения. Требуют – не призывают, ибо он попрал доверие королевы, воспользовавшись ее юным возрастом, и свой высокий пост, приняв решения, направленные не ко благу страны и Ее величества. Войска лордов миновали Фолкленд и Данфермлин, двигаясь вдоль побережья к югу, и встали на очередной ночевке в виду замка Стерлинг, внизу, под крепостью, где когда-то давно епископ Брихин командовал сбором войск, направляющихся на Эдинбург… шпионы Дугласов и Гамильтонов шныряли вокруг армейских костров так, словно правитель королевства и не был открыто оповещен от целях и намерениях «Мятежного Парламента». Шпионы несли разные слухи в Эдинбург, в Холируд – то об ужасающей численности войск, то о планах сместить правителя, то о заговоре с целью его убийства. Но последнее регент высмеял, указав на то, что собственный его брат никогда бы не стал принимать участие в подобном мерзостном деле – яростная честность приора Пейсли была равно известна и врагам его, и друзьям.
– Ну? – спросил регента Джордж Дуглас Питтендрейк. – И к чему это привело – то, что вы взялись подумать над делом Босуэлла? Говорил же я вам, дорогой мой милорд-правитель, светлая вы моя голова, купить надо этого мерзавца! Купить! А теперь у клятых горцев Аргайла и Хантли в его лице появилась конница… а конница – это прескверно!
– И купил бы! – огрызнулся регент. – Если бы собственный ваш племянничек, любезный сэр Джордж, не завел с ним свару в самый неподходящий момент… Теперь мне придется просить брата Клидсдейла примирить вас, прежде чем Босуэлл согласится хотя бы войти под один и тот же кров с Дугласами.