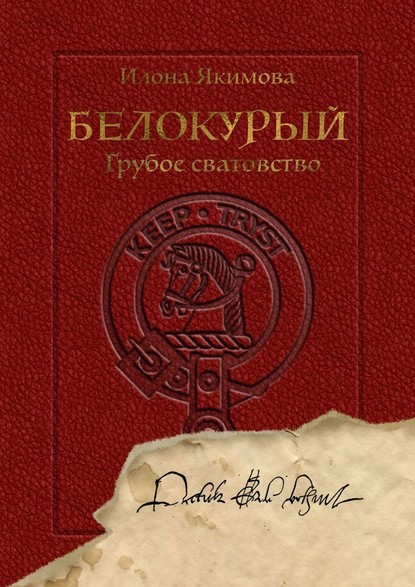По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белокурый. Грубое сватовство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дядя Джон все переделал в двадцать восьмом году, когда мы приехали ко двору, камня на камне не оставил от прежнего дома, разве что печные трубы… Это же Брихин!
– Да, это Брихин, – эхом согласилась она.
– Он отправился сразу на юг, не пожелав даже переночевать.
– Его можно понять, – неожиданно веско отвечала леди Агнесс. – Какие бы воспоминания не привязывали его к этому дому нынче, в прошлом Джона Хепберна довольно зла… приобретенного его душой среди этих стен.
Первый раз мать заговорила о епископе открыто – тем удивительней был такой ее первый отзыв.
– Ты считаешь его злым? Отчего же доверила мое отрочество его трудам?
– Я считаю, что ни ты, ни я не можем знать глубин души Джона Хепберна. И я не доверяла тебя ему – хотя это оказались лучшие руки из всех возможных. Кто бы мог подумать, когда… – она осеклась. – Ты забываешь, Патрик, что меня никто не спрашивал. Будь моя воля, я бы не рассталась с тобой никогда.
Прошуршало плотное сукно дорожного платья, две руки обвились вокруг его шеи, и теперь уже она – не он – по разнице в росте могла припасть, спрятать лицо на груди. Долгий вздох Агнесс Максвелл – с закрытыми глазами, в том умиротворении, которое получала она, ощутив достоверно, телесно: вот он, сын, он рядом, он жив, он благополучен. Тот день, когда проснулась лишенной ребенка, до сей поры возвращался к ней в кошмарных снах, и всегда финал был несчастлив: мальчика убивали, или он погибал, или был изведен отравой…
– Я люблю тебя. Помни об этом всегда, и Господь тебя сохранит.
Столько отчаянной любви к нему он не встречал ни у одной из женщин, ни одной женщины ему так не хватало, как матери – когда-то давно, но этот голод, прошлый, утолить уже не придется. Теперь он брал то, что мог, и был благодарен небу за это.
И Босуэлл вышел во двор, не стыдясь на манер грума подсадить мать в седло, охватив ладонями все еще тонкий стан почти пятидесятилетней женщины… все еще красивой – жалкие слова, говорящие только о хрупкости женской жизни и красоты сравнительно со жребием мужчины и воина – вспоминая те дни, когда, приезжавшая к нему в Сент-Эндрюс, она, нынче едва достигающая его плеча, спешиваясь, казалась такой высокой, прекрасной, грозной… Утихла гроза в пылком нраве Агнесс Стюарт, но зрелая красота осени облекала ее, как мантия – королеву.
– Сейчас ты очень похож на своего отца.
Она не сказала – которого.
Но он давно уже и не спрашивал.
Наклонясь с седла, королева запечатлела на лбу его поцелуй, и «Уордлоу! Уордлоу!» – Максвеллы отбыли. На Север или открывать фамильный дом, там будет видно, куда повернется судьба. Он давно вырос и, в отличие от одинокого мальчика в Сент-Эндрюсском замке, знал, что каждая их встреча может стать последней.
В первых числах апреля королевский замок Дамбартон спустил подъемный мост надо рвом и отворил ворота, Дамбартон принял в свои объятия пришлеца. Два корабля под флагом Его величества Франциска пришвартовались в гавани, покорив дурную погоду и северные морские пути, и по сходням на берег сошел, брезгливо оглядываясь и стряхивая с рукава дублета невидимую пыль странствий, молодой человек – высокий красавец в темно-зеленом дорожном костюме, с узкой талией девушки, еще дополнительно перетянутой немецким колетом, с очень белой кожей лица и маленьких рук; волосы под бархатным черным боннетом были того огненного цвета, за который рыжих прозывают поцелованными солнцем. Тонкие, будто удивленно приподнятые брови, маленький яркий рот, темные глаза… и самое неприятное, думал регент, что этот офранцуженный франт холост, хотя ему уже двадцать шесть лет, а королева-мать, по слухам, зазвала его на родину из-за Канала именно надеждой на брак. Кардинал Битон больше двух месяцев находился в заключении, но последствия его прежних подкопов под регента Аррана, тем не менее, выплывали все гаже – с каждым днем. Джеймс Гамильтон мог перекрыть все порты восточного побережья, что он и сделал – чтобы предотвратить сношения королевы-матери с Францией, где стала бы она искать естественной поддержки, и он отдал соответствующий приказ и коменданту Дамбартона, но гарнизон принял иное решение, гарнизон, ранее накрепко стоявший против любого внешнего врага Шотландии, поскольку регент регентом, но присяга лорду первична. Ибо домой вернулся капитан французских гвардейцев – во главе сотни тех самых гвардейцев – Мэтью Стюарт, четвертый граф Леннокс.
Претендент на престол и кровный враг Джеймса Гамильтона, второго графа Аррана.
Соперничество Гамильтонов и Стюартов, основанное на доле королевской крови в каждом роду, тянулось примерно век, и вроде бы завершилось двадцать лет назад, когда Джеймс Гамильтон Финнарт по приказу своего отца, первого графа Аррана, обезглавил пленного третьего графа Леннокса – за изменническую попытку захватить малолетнего короля. И когда двое сыновей казненного, Мэтью и Роберт, бежали во Францию, и когда двое его дочерей, Элизабет и Элеонора, были отправлены в монастырь, а после изгнания Ангуса приняты бесприданницами ко двору молодого короля, тогда, при жизни Джеймса V Стюарта, никому бы и в голову не пришла эта противоестественная и трагическая коллизия: однажды в стране окажется три наследника престола, трехмесячная девчонка Мария Стюарт и двое претендентов по женской линии, ровесники, взрослые мужчины, Арран и Леннокс. Арран, чтоб сбросить со счетов сторонников французской вдовы Аргайла и Хантли, выпустил из тюрьмы потомственного лорда Островов Дональда Ду и заложников горских кланов, но кардинал Битон ответным ходом призвал в страну Леннокса, чтоб тем самым испортить игру Аррану. Что он пообещал ему, пленный канцлер, в своем легендарном письме – письме, написанном под его диктовку Марией де Гиз – брак с престолонаследницей, как морковку, подвешенную перед носом голодного осла на ближайшие пятнадцать лет? Руку королевы-матери в случае, если Леннокс поможет ей завоевать по праву принадлежащее де Гиз регентство? Или, не дай Господь, и сам трон Шотландии в обход девчонки Стюарт? Битон не уставал говорить публично, что из Леннокса получится куда лучший король, чем получился бы из Гамильтона!
Его милость правитель Шотландии Джеймс Гамильтон, хмурясь, читал донесения своих шпионов с западного побережья. Устье Клайда закрыто для регента – теперь, когда Дамбартон взял сторону своего исконного хозяина.
Мэтью Стюарт поднял в седло своих гвардейцев и мчался на крыльях страсти и тщеславия в Линлитгоу.
Патрик Хепберн пробудился в Босуэлл-Корте довольно поздно, отсыпаясь с дороги, и когда Роберт Бернс вбежал в холл, торопясь изложить сплетню, Хепберн и Хей делили хлеб и эль за неспешным разговором и завтраком.
– Ну, вот теперь и начнется… – сладко потягиваясь, сказал Белокурый. – Теперь и начнется, Рон.
Но не уточнил, что.
Конечно, он так и не поднял четыре тысячи, как лихо пообещал кузену, но поднял и содержал две – столько, сколько смог быстро собрать и экипировать на деньги, занятые у Джорджа. Зато эти две тысячи, отощавшие за зиму на скудном пайке вилланов, были свирепы, как волки. Белокурый ни на минуту не забывал теперь о самом простом – о засадах в лощинах, об узких улицах обеих столиц; не меньше полусотни всадников сопровождало графа Босуэлла по всем пустячным делам, и Рональд Хей, негласно ставший в те поры капитаном охраны графа, бдительно следил, чтобы это правило не нарушалось и в мелочах. Сотня рейдеров была при нем при посещении Парламента в Эдинбурге, когда Хантли, Аргайл и Босуэлл явились перед Тремя сословиями дать ответ за свое мятежное поведение, на деле же – так искусно опорочить Аррана в глазах публики, чтоб самим занять место при его особе, для совета и усмирения проанглийских намерений регента. Хантли, невысокий, крепко сбитый, несмотря на свои двадцать восемь лет уже начинающий полнеть, разодетый с роскошью настоящего горца, хотя и облагороженного двором, в цвета своего клана, говорил добрые три четверти часа – резко жестикулируя, не стесняясь в выражениях. Несколько раз речь его прерывали свистом и улюлюканьем, но тотчас в толпу кидались клансмены Сазерленда – и следующие мгновения слуги регента, надрывая горло до хрипа, страдая от перепадавших и им тумаков, возвращали благородных лордов к порядку. Когда Джордж Гордон закончил речь, с лица его капал пот, а черные кудри кольцами налипли на мокрый лоб… и тогда раздались первые аплодисменты и возгласы одобрения. Из Парламента они вышли триумфаторами, Рональд Хей отозвал стрелков-аркебузиров, занимавших посты возле каждого окна, а после Гордон и Хепберн направились в Хантли-хаус, обсудить и обговорить грядущее. Оба молчали весь долгий ритуал ужина, пока мажордом высылал стюардов расстелить скатерть и выложить приборы, пока слуги уставляли снедью два буфета, резали жаркое на куски, разливали по кубкам красное… Хантли, переодевшийся в свежее белье, у себя дома обернутый в тартан, развалился в кресле во главе стола, отдуваясь и мотая головой – вспоминал битву, Босуэлл, откинувшись на спинку кресла, крошил в пальцах хлебный мякиш, мелкими, редкими глотками уговаривал темный эль, смотрел поверх головы хозяина дома, думал, а после внезапно произнес в своей излюбленной манере – как если бы продолжал беседу, прервавшуюся всего лишь на час, не на пару недель:
– Поговори с Арраном, Джорджи… поговори, пока мы здесь – и на пике мимолетной славы у плебса. У тебя легкий нрав, тебя все любят, и на тебе, в отличие от меня, нет клейма изменника. Он уступит тебе.
– Пробовал, – Хантли понял его с полуслова, – но он стоит на своем и не сдвинется с места. Он же ненавидит Битона лютой ненавистью.
– Да брось! Сдается мне, они дурят нас, эта парочка кузенов – кто бы ни пробился к власти, один из них всегда на коне. А ссорятся лишь для отвода глаз… Арран может ненавидеть Битона сколько угодно, но приложить руку к его гибели у него не хватит духу, кишка тонка. Поговори снова! А я тебе подыграю, Джорджи.
– То есть?
– Скажи Аррану, что я заключил союз с Дугласами – и ради того, чтоб вернуть Долину, готов забыть о кровной вражде.
– Что, в самом деле?!
– Раньше небо упадет в Ферт-о-Форт, – отвечал Босуэлл спокойно. – Так скажи ему, что Ангус непременно выдаст мне Битона, чтоб я увез его в Лондон к Генриху… ведь подозрения покойного короля в мою сторону весьма широко известны, не так ли? Скажи ему, что это дело ближайших дней…
– Он потребует доказательств.
– Он их получит. Я в самом деле договорюсь с Питтендрейком.
– Ты готов рискнуть головой?
– Ради того, чтоб Битон вернул мне Долину, раз этого до сих пор не сделал Арран – да. Арран струсит, узнав об этом – если он в самом деле передаст католического примаса Шотландии в руки сассенахам, как долго ему оставаться регентом? И тогда послушает тебя…
– И передаст Битона кому-то из лордов королевы – чтобы остаться в стороне!
– Вероятней всего.
– Патрик! – и Хантли вскочил со своего места, в восторге обнял кузена. – Королева тебе этого не забудет, клянусь!
– Да уж надеюсь, – с усмешкой отвечал тот.
Усмешка эта шевельнула что-то неназываемое в памяти Джорджа Гордона, он поколебался, но все-таки произнес – неожиданно для себя самого:
– Знаешь… давно хотел узнать у тебя… стало быть, те слухи, что ходили у нас, чего ради Джеймс взбеленился на тебя… всё правда?
Не вполне понятно было, что Хантли имеет в виду – измену государю или обольщение государыни.
– Ну, а сам-то как думаешь? – спросил в ответ Белокурый, уже не улыбаясь.
И Джордж Гордон Хантли, споткнувшись об этот пристальный, стальной взгляд, вдруг отчего-то почувствовал себя неловко и не смог дать себе ясного ответа, и с этим знанием о друге детства и родственнике ему предстояло жить остаток лет… но Джордж предпочел не усложнять отношения мелочами.
– Ладно, что бы там ни было прежде, Патрик, сейчас-то ты – лорд королевы… однако ведь и Дугласы не простят.
«Не простят» – слабо сказано. Если Ангус пойдет на союз с Белокурым и будет потом обманут – гневу его не будет равных ни на равнинах, ни в горах, в добавление к той-то, прежней, стойкой ненависти.
– Не простят – быстрее сдохнут, – кратко отвечал Босуэлл. – Это уж моя печаль, кузен, и моя забота. Если Ангус первый зажжет пламя междоусобицы в Мидлотиане – там, где этого не могу сделать я, самый миролюбивый и законопослушный среди баронов Марии де Гиз…
– Тебе это только на руку, – прошептал осененный догадкой Хантли и немедленно выпил, чтобы сдержать чувства. – Любой исход… ты все просчитал.
– Почти.
Пока первый стюард нарезал оленину, пока широким ножом разваливал на чеканном серебряном блюде розоватые куски сочного мяса, поливал их горчичным соусом, сотрапезники снова молчали, жадно принявшись за еду – и если в Хантли говорила понятная усталость, то Босуэлла сжигала изнутри острота момента, лихорадочное желание деятельности. Он ел, не чувствуя вкуса, кроме вкуса виски, который предпочел и бордо, и элю. Виски и лошади – лучшее, что есть за душой у кузена Джорджи, лучшее и самое живое. Но между говядиной и слоеным пирогом с мелкой птицей Джорджи снова заговорил: