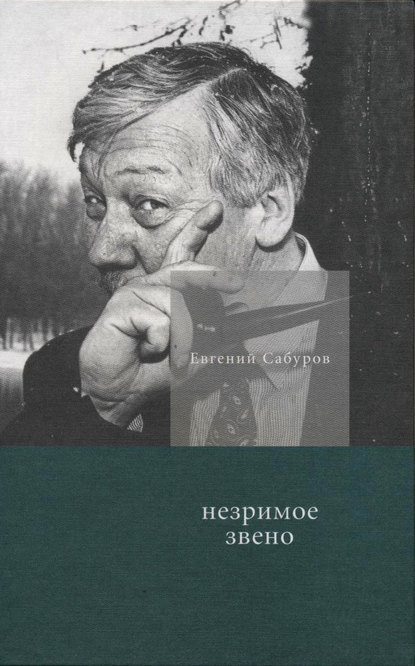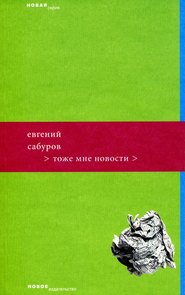По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
цвел огонь желтым пальцем,
обнаженным позором.
И от бурого снега
над бульваром черным в ночи,
восходили на небо
жарких искр кулачки.
Достучаться хотя б не до счастья,
до летящей в постели любимой,
опрокинутой навзничь и настежь
в эту грязную зиму.
Обнаружен сосок-погремушка,
губ раскрытых кормушка
и накрытый большим одеялом
ни к кому и ко всем приставала.
В грязной каше февральского снега
над разрытой дырой трубы греют костром.
Мне бульвар перейти до ночлега
и взобраться по лестнице в дом.
«Неповторимы, необоримы…»
Неповторимы, необратимы
небо и мера, море и буны,
их не вернешь неожиданным бунтом
в марте в Москву из ноябрьского Крыма.
Все неподвижно в ночи,
неподвижно.
Все-таки ты помолчи —
мне не слышно,
как удаляется и проходит
жизнь в прошедшую осень,
как исчезают целые годы.
Бог с ними, кушать не просят.
«Она приехала за мной…»
Она приехала за мной
туда, где не было меня.
Вперед, любимая, вперед!
Над ней усталый и больной
сморкающийся небосвод
все плакал на исходе дня:
– вперед, любимая, вперед!
Ребенок попросил, чтоб лук
я смастерить ему помог.
Я выбрал самый длинный сук,
согнул его посредством рук
и чуточку посредством ног,
и охвативши бечевой
его рога,
я над зеленою травой
незримого искал врага.
Какая жалость и печаль —
меня затягивает даль,
меня заглатывает бред,
она меня не достает.
Вперед, любимая, вперед!
Она плывет за мной вослед.
Вперед, любимая, вперед!
«Опять угроза судоходству…»
Опять угроза судоходству
и хулиганы по дворам,
Востока сложное уродство
и неразгаданный Кумран,
кошмар потерь под Кандагаром,
преображенный «Новый мир»
и в переводе очень старом
плохо прочитанный Шекспир.
Перечисленья, исчисленья
шагов танцующего духа
не столько схожи с вьюгой пуха —
скорее с монотонным чтеньем
косноязычных дидаскалов
на низком клиросе в деревне
поэзии немой и древней
и, кажется, что обветшалой.
Кто может пристальностью взгляда
похвастать, кто возьмет, скажи,
такие с ходу этажи,
чтоб стало и земли не надо,
а только простыни пространств
перед тобою, за тобою,
а только раны постоянств
даны обычною любовью.
обнаженным позором.
И от бурого снега
над бульваром черным в ночи,
восходили на небо
жарких искр кулачки.
Достучаться хотя б не до счастья,
до летящей в постели любимой,
опрокинутой навзничь и настежь
в эту грязную зиму.
Обнаружен сосок-погремушка,
губ раскрытых кормушка
и накрытый большим одеялом
ни к кому и ко всем приставала.
В грязной каше февральского снега
над разрытой дырой трубы греют костром.
Мне бульвар перейти до ночлега
и взобраться по лестнице в дом.
«Неповторимы, необоримы…»
Неповторимы, необратимы
небо и мера, море и буны,
их не вернешь неожиданным бунтом
в марте в Москву из ноябрьского Крыма.
Все неподвижно в ночи,
неподвижно.
Все-таки ты помолчи —
мне не слышно,
как удаляется и проходит
жизнь в прошедшую осень,
как исчезают целые годы.
Бог с ними, кушать не просят.
«Она приехала за мной…»
Она приехала за мной
туда, где не было меня.
Вперед, любимая, вперед!
Над ней усталый и больной
сморкающийся небосвод
все плакал на исходе дня:
– вперед, любимая, вперед!
Ребенок попросил, чтоб лук
я смастерить ему помог.
Я выбрал самый длинный сук,
согнул его посредством рук
и чуточку посредством ног,
и охвативши бечевой
его рога,
я над зеленою травой
незримого искал врага.
Какая жалость и печаль —
меня затягивает даль,
меня заглатывает бред,
она меня не достает.
Вперед, любимая, вперед!
Она плывет за мной вослед.
Вперед, любимая, вперед!
«Опять угроза судоходству…»
Опять угроза судоходству
и хулиганы по дворам,
Востока сложное уродство
и неразгаданный Кумран,
кошмар потерь под Кандагаром,
преображенный «Новый мир»
и в переводе очень старом
плохо прочитанный Шекспир.
Перечисленья, исчисленья
шагов танцующего духа
не столько схожи с вьюгой пуха —
скорее с монотонным чтеньем
косноязычных дидаскалов
на низком клиросе в деревне
поэзии немой и древней
и, кажется, что обветшалой.
Кто может пристальностью взгляда
похвастать, кто возьмет, скажи,
такие с ходу этажи,
чтоб стало и земли не надо,
а только простыни пространств
перед тобою, за тобою,
а только раны постоянств
даны обычною любовью.
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6