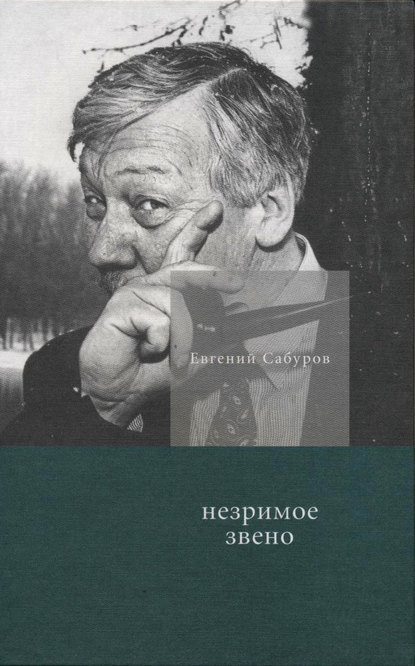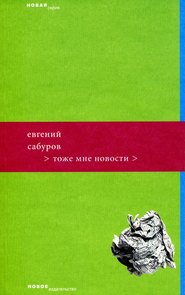По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сидеть и думать бесполезно
о том, что было и что будет.
Все наше прошлое болезненно,
а будущее нас осудит.
Давно прорезали морщины
мой лоб, но это все неважно,
не это управляет жизнью —
жить просто страшно.
Какой-то маленький обидчик
тут увязался с малолетства
и тычется туда-сюда и тычется.
Какое блядство это детство!
Я же немереный оскал
вдруг вижу после старости,
но те, кто так меня ласкал,
совсем не в ярости.
Совсем не в ярости.
«Мне так чужда опасливая склонность…»
Мне так чужда опасливая склонность
придумывать особые слова,
чтоб избежать в банальности и лености —
упреков. Голова
полна совсем другими играми и плясками.
Лай злобы тяготит ежеминутно
непредсказуемыми всплесками
и хочется пожить уютно,
на скатерти травы потягиваясь, разминая
все за зиму свалявшиеся мышцы.
И мысли нет, что вот меня минуя
открытье шумное промчится.
Скорби, подхлестывающие юношу к деяньям,
меня давно не радуют энергией,
которую они несут с собой. Дневной
свет гаснет, но сначала меркнет.
«Когда ты назовешь мне тихий образ…»
Когда ты назовешь мне тихий образ
какими-то трескучими словами,
я выйду в сны и там открою область,
где свет над головой и травы под ногами.
Я долго не останусь на поляне,
я в лес войду, пускай и сожалея
о том, что так немного побыл пьяным,
свободным, ошалевшим от веселья.
Среди деревьев хороши приличья,
логичен треск – ведь что-нибудь трещит.
О пище и любви доносит гомон птичий,
а пустота не ест и тишина молчит.
«Здесь постоянный дождь. Я вижу из окна…»
Здесь постоянный дождь. Я вижу из окна
июньскую погоду в Подмосковье,
которая приносит мне сполна
все то, что называемо любовью —
покой, необязательность труда,
насыщенность переживаний света.
И то, что не добраться до пруда,
так характерно для начала лета.
Я думаю о близких и домашних,
об их заботах и привычном распорядке,
и барственно смирив свои замашки,
киваю одобрительно на грядки.
Свобода и терпенье так близки!
Приняв другого, сам очарователен
становишься и хоть до гробовой доски
стараешься побыть внимательным.
«Непроясненная небрежность письма…»
Непроясненная небрежность письма,
письма оставшегося от прошедших времен
мила, но прежде всего – это тюрьма
разрушенная. Ни дверей, ни окон.
Входите так. Но мы ищем дверь
или на худой конец окно, чтобы понять,
как тут жить и что за круговерть
могла так взволновать
узника, взыскующего свободы, потому
что каждое письмо о том, как бы выйти вон.
Читая об этом, мы строим тюрьму
безвозвратно прежних времен.
Конечно, мы не правы, придумывая расположение дверей,
о том, что было и что будет.
Все наше прошлое болезненно,
а будущее нас осудит.
Давно прорезали морщины
мой лоб, но это все неважно,
не это управляет жизнью —
жить просто страшно.
Какой-то маленький обидчик
тут увязался с малолетства
и тычется туда-сюда и тычется.
Какое блядство это детство!
Я же немереный оскал
вдруг вижу после старости,
но те, кто так меня ласкал,
совсем не в ярости.
Совсем не в ярости.
«Мне так чужда опасливая склонность…»
Мне так чужда опасливая склонность
придумывать особые слова,
чтоб избежать в банальности и лености —
упреков. Голова
полна совсем другими играми и плясками.
Лай злобы тяготит ежеминутно
непредсказуемыми всплесками
и хочется пожить уютно,
на скатерти травы потягиваясь, разминая
все за зиму свалявшиеся мышцы.
И мысли нет, что вот меня минуя
открытье шумное промчится.
Скорби, подхлестывающие юношу к деяньям,
меня давно не радуют энергией,
которую они несут с собой. Дневной
свет гаснет, но сначала меркнет.
«Когда ты назовешь мне тихий образ…»
Когда ты назовешь мне тихий образ
какими-то трескучими словами,
я выйду в сны и там открою область,
где свет над головой и травы под ногами.
Я долго не останусь на поляне,
я в лес войду, пускай и сожалея
о том, что так немного побыл пьяным,
свободным, ошалевшим от веселья.
Среди деревьев хороши приличья,
логичен треск – ведь что-нибудь трещит.
О пище и любви доносит гомон птичий,
а пустота не ест и тишина молчит.
«Здесь постоянный дождь. Я вижу из окна…»
Здесь постоянный дождь. Я вижу из окна
июньскую погоду в Подмосковье,
которая приносит мне сполна
все то, что называемо любовью —
покой, необязательность труда,
насыщенность переживаний света.
И то, что не добраться до пруда,
так характерно для начала лета.
Я думаю о близких и домашних,
об их заботах и привычном распорядке,
и барственно смирив свои замашки,
киваю одобрительно на грядки.
Свобода и терпенье так близки!
Приняв другого, сам очарователен
становишься и хоть до гробовой доски
стараешься побыть внимательным.
«Непроясненная небрежность письма…»
Непроясненная небрежность письма,
письма оставшегося от прошедших времен
мила, но прежде всего – это тюрьма
разрушенная. Ни дверей, ни окон.
Входите так. Но мы ищем дверь
или на худой конец окно, чтобы понять,
как тут жить и что за круговерть
могла так взволновать
узника, взыскующего свободы, потому
что каждое письмо о том, как бы выйти вон.
Читая об этом, мы строим тюрьму
безвозвратно прежних времен.
Конечно, мы не правы, придумывая расположение дверей,
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6