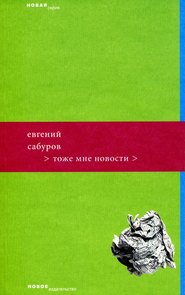По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я все старался опереться на просторы
непознанной, но видной красоты.
Рассвирепевшая, она входила в поры
и – да, да, да! – кидала на просторы,
а на просторах тех цвели сады.
Но прежде, чем расцвесть садам, им надо было,
хотя бы взять и вот произрасти.
Пока же над оврагом облако проплыло,
как будто не было его, как будто было.
Будем считать, что это полпути.
«Тихо живу на земле…»
Тихо живу на земле
и не трогаю мир сокровенный
душ, окружающих тихую жизнь на земле.
Ласково глажу лицо,
погруженное в дрему, и думать не стал,
что в моей ласке такого, что мне хорошо.
Мимо кружится, кружится поодаль
плотный клубок, разворошенный клубок,
маленьких мышек милей.
Двери пищат и попискивает
снег под ногами, в горошек
свалявшийся ещё тогда, когда он был парашют.
На открытом дыхании
Если верить в случайности, то можно посчитать случайностью и мое знакомство с Евгением Сабуровым. Москва конца шестидесятых годов жила замкнуто, без общих площадок, круги не очень-то размыкались, и вероятность встречи второкурсника архитектурного института с почти выпускником мехмата МГУ была ничтожно мала. Тем не менее, встреча состоялась, – через зыбкую цепочку других знакомств, как будто ради нее и сложившуюся на время.
Мы дружили больше сорока лет. В телефонных переговорах о приходе в гости я научился различать особый – не без значительности – тон, предваряющий прочтение новых стихов. Раньше это случалось часто, в последнее время два-три раза в год, зато предъявлялись не несколько стихотворений, а новая тетрадка – по существу новая книга. Осенью 2007 года Женя прочитал написанную за лето книгу поэм «В поисках Африки». Чтение продолжалось долго, там больше двух тысяч строк – своего рода рекорд.
Впечатление от таких домашних чтений бывало очень сильным, иногда оглушительным. Оно подтверждается и сейчас, когда я постепенно перечитываю эти вещи другими глазами, под новым углом. Это технически непросто: там больше тысячи стихотворений, десяток поэм. В четырех изданных поэтических книгах Сабурова собрана меньшая часть его вещей.
Все-таки это удивительно. По моим наблюдениям подлинных поэтов в каждом поколении всегда можно пересчитать по пальцам. Поражает полное равнодушие к судьбе одного из пальцев.
Конечно, есть какие-то внелитературные обстоятельства. Сабурова очень долго читали как бы сквозь мутные очки: как стихи известного экономиста и политика. И в этом недоразумении, воля ваша, сказалось какое-то очень советское представление о человеческом предназначении: один человек – одна профессия. При таком представлении даже в литературе неуместно занимать больше одной строчки цеховой спецификации, что уж говорить о деятельности в разных областях.
Ко времени нашего знакомства (конец 1967 года) некоторые из приведенных здесь стихотворений уже были написаны. Они сильно отличались от тогдашней, по большей части тихоструйной, лирики, перебирающей как четки десяток давно заявленных тем. (Понятно, что я говорю сейчас об общем фоне своих впечатлений, то есть о журнале «Юность», а не о лианозовской группе или «филологической школе».) В них было много замечательного и необычного, многого и не было: не было ученического прилежания, не было ни капли робости. Двадцатилетний Сабуров говорил как «власть имеющий». И эта очень твердая, отчетливая дикция жила на какой-то движущейся, скользящей основе.
Вот, к примеру, раннее стихотворение «Нам надо встретиться». Оно начинается по меркам шестидесятых очень «нормально», а потом что-то делает с самой этой нормой – отменяет ее. Ритм последней строфы меняется и выходит на свободу, а неравносложный ассонанс дает стиху легкость дыхания. Это вызывающе свободное «запах – необязательно» восхищает меня и сейчас.
Начиная писать о Сабурове, вскоре замечаешь, что слова «свобода» и «свободный» вылезают в каждом втором предложении, и надо прилагать специальные усилия, чтобы драгоценное определение не превратилось в слово-паразит. Но именно это свойство вещей Сабурова поражало в первую голову – как сорок лет назад, так и в последние годы.
Только недавно набрел на дословный перевод «Поэтического искусства» Верлена: «Надо, чтобы ты отбирал слова не без некоторого презрения. Нет ничего дороже песни как бы слегка захмелевшей, где неопределенное сочетается с точным». Мне показалось, что очень похоже на Сабурова, как будто он прямо следовал этой рекомендации. Только «неопределенность» здесь обозначает не расплывчатость, а движение к точности, не знающее о конечной остановке и ее не имеющее: не-определенность. Такое движение к незаданной, но ощутимой цели, вероятно, и дает стиху желанную свободу.
Ритм стихов Сабурова не расшатан, а рожден свободным. Это какое-то вольное движение, угрожающее сдвигом и сбоем. Живое соединение тонического стиха и регулярной метрики усложняет и невероятно естественно нарушает ритмические ожидания. Сабуров только это и ценил в поэзии: открытое дыхание и совсем свежий, еще сырой звук.
Знание возможностей стиха как будто с ним родилось, Сабуров пользовался им недемонстративно и произвольно. То есть тактически, а не стратегически.
Стратегия была другая: не объявляя себя участником «войны средств против средств» использовать в военных целях свое мирное владение средствами. Стихи наступали по всему фронту, не соглашаясь на выделение «манеры»: на сужение задачи до узнаваемой стилевой повадки или авторской маски.
Стихи Сабурова того времени – осознанный палимпсест. Но осознанный не как прямое или скрытое цитирование, а как письмо поверх общего мелодического гула, где ритмы предшественников не распознаются в узнаваемых голосах. Отслаиваясь от подсушенной «поэтической» лексики, новый язык – «язык новизны и содома» – звучал еще пронзительнее. Слова стояли в непривычных позициях и требовали другого отношения к себе.
В описании выходит какое-то хорошо забытое старое, хотя на деле это было хорошо забытое новое. Точнее, то и другое одновременно. Сходство через временной разрыв в тридцать-сорок лет обманчиво, за это время в поэзию, по слову Григория Дашевского, «приходят другие демоны». Очень важно, как движутся слова, но куда важнее, что ими движет.
«Чувство меры мертвой точкой / обернулось в ходе поршня – / подтолкни его чуточек, / против вкуса стань, короче, / чуть послаще, чуть погорше». Новому чувству полагается и новая мера. Это были структурные изменения: одна поэтическая система шла на смену другой. Смешение двух языковых стихий, соединение несоединимого – модернистского понимания стиха и «советского» языка – порождало сопротивляющуюся и возмущенную стиховую материю.
Есть совершенно новое качество стиховой речи, основанное на ощущении, что реальные смыслы и значения не закреплены за словами, а свободно гуляют по собственным маршрутам. Это не означает, что их нет. Но нужно поймать момент совпадения. Слово нужно было навести на смысл. (Вероятно, именно это Сабуров называет «культ удачи».) Поэтому важнейшим становится поиск не особого – выделенного – языка, а особой речевой ситуации.
Много позже Сабуров даже придумал этому название: интенциализм: «Интенциализм предлагает обнаруживать намерения в речи». Похоже, любой новый термин поначалу выглядит диковато, а нормально начинает звучать, когда приедается и как бы стирается, – становится кличкой, маркой. Но на первых порах – чем непонятнее, тем лучше. (Концептуализм – очень удачное название, потому что много лет почти никто не понимал, что оно означает.) Сложность в том, что нужно было найти имя не для течения, а для нового состояния поэзии. Для новой эпохи.
Кстати о концептуализме. Концептуализм «обживал» художественную ситуацию, навязывая ей свое правило – «правило левой руки». Но любое противостояние успешно, когда оно, так сказать, двуручно. «Интенциализм будет пробиваться исподволь», – пишет Сабуров. Появление новых возможностей с другой стороны (справа) не манифестировалось и очень долго не воспринималось как «ответ времени», потому что не было проектом: не имело зримых проектных очертаний.
Не воспринималось еще и потому, что это не было делом ка– кой-то одной литературной группы, а только частной реакцией разных поэтов на общий вызов. Евгений Сабуров, Николай Байтов, Алексей Цветков, Александр Миронов – эти совершенно несхожие (они и не сходились) авторы существовали в одной художественной ситуации, и параллельность их реакций на нее не ощущалась тогда, но заметна сейчас.
С течением времени у разных поэтических систем обнаруживается единое основание, и в нем заложена основная проблематика эпохи. В нашем случае это семидесятые годы, когда утверждение о «невозможности поэзии» зазвучало на редкость убедительно.
Предшествующее десятилетие еще держалось какими-то умозрительными связями; были живы – или только вчера умерли – признанные великие поэты, и это делало ситуацию не такой отчаянно откровенной.
К семидесятым от прошлого не осталось ничего. Время вошло в какую-то облачную зону, накрыто непроглядностью. Понятия не понимали, что они изменились, тем более не понимали, как они изменились. Старые слова не могли их вразумить. В них таился оттенок недоумения, словно говорящий обнаружил иностранный язык на месте родного.
Эта вопросительная нота, различимая в любом утверждении, – отличительная черта лирики тех лет. Но поэтический язык существует реально, когда он способен восприниматься как определенный образ действий.
Действенная основа любой состоявшейся поэзии не всегда понятна современникам. Но реальный автор и делает что-то реальное: совершает новый вид работы, занимает новое место. Теперь мы способны существовать там, где прежде даже не оказывались. Такая поэзия – единое действие, продолженное от начала жизни до ее конца и направляемое из одного центра.
Где же находится то новое место, откуда говорит Евгений Сабуров? Ответить очень непросто: слишком изменчиво его авторское «я», слишком подвижна психика. Слишком прямо отзывается автор на самые разные обстоятельства – от возраста до того климата страны, который в его случае не хочется называть «общественным»: меняющаяся природа общества воспринималась Сабуровым вне схем и в совокупности, скорее как именно природное изменение. Да и двигался он очень быстро, – но об этом позже.
Тем не менее, такое место есть, и обозначено вполне определенно.
Благодарю Тебя, Господь, за то, что я не лев, не пес,
благодарю за то, что я труха земная,
что жизнь моя, как стая ос,
мятущаяся, отдыха не зная.
Есть особое ощущение жизни, понятой как увлекательная, ослепительная неудача. Казалось бы, Сабурову-человеку трудно посчитать себя неудачником. Но здесь нет позы, это сказано абсолютно честно.
Сабуров говорит из какого-то затянувшегося «неужели?» Затянувшегося – но не привычного, не теряющего остроты и неожиданности. Если это недоумение, то оно лишено созерцательности и подобающего уныния. Оно ищет выход. И именно потому, что вопрошание здесь требовательно и, в общем, лишено смирения, оно иногда на ходу – по ходу дела – оказывается в таких областях, куда не решалась бы заглянуть более стоическая душевная практика.
Господи, да вправду ли хорош,
так ли уж хорош Твой мир зловещий,
даже если сможешь в каждой вещи
отслоить бессилие и ложь?
…………………….
Я дышу мельчайшей красотой,
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6