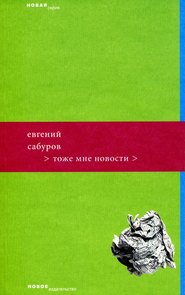По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
я живу, ручьями отраженный,
и пляшу себе умалишенный,
бедный, неудавшийся, пустой.
Сабуров, проживший несколько жизней одновременно, как– то слишком хорошо понимал тех, кто не прожил ни одной. Как будто заодно захватил и такую – неудавшуюся – судьбу, в полной мере испытав ужас общей участи, когда непоправимо даже то, что ты родился на свет.
Самая живая, самая незаживающая утрата – утрата небывшего, неслучившегося. Кто не ощущает ее боль, того едва ли можно назвать живым.
Случается, что человек становится камнем («человеком из мрамора»), только бы сохранить какую-то форму. Нет, это не случай Сабурова. Ни на каких условиях он не соглашался быть мертвым даже на йоту.
Стол печали застели и пей,
пей и пой, ах! пой себя не помня
произросший яростно репей
на заброшенной сто лет каменоломне.
То мне чудится, я темнота и ночь,
чей-то сын, а может, чья-то дочь,
то мне снится, будто я один.
Солнце. День. И я ничей не сын.
Что-то очень необычное есть в том, как возникают стихи Сабурова; в способе их порождения можно различить странную, почти свирепую одержимость. «Страшно жить отцеубийце / все кругом играют в лицах / весь души его клубок». Но и стихи делают то же самое: «играют в лицах весь души его клубок». А поскольку играют (поэзия по Сабурову – игра), да еще «в лицах», то иной раз переходят черту, хватают через край (тебя же, читатель, и хватают через край).
Есть интонации, от которых делается не по себе. Иногда кажется, что Сабуров знает о жизни и то, что лучше бы не знать. Ка– кие-то зловещие нотки не оставляют в покое. Такое знание непонятно откуда взялось, автор его не звал и на нем не настаивает. Оно возникает в стихах помимо его воли, налетает как тень, как сон. Сами стихи знают что-то устрашающее. Стихотворение своим ходом оказывается в «сумрачном лесу» – области невыразимой и вещей тревоги. Оно выталкивает на сцену второе, теневое «я» и говорит его голосом.
Это не назовешь монологом, речь обращена не к другому, и даже не к другому в самом себе. Это речь другого, неизвестного, обращенная к себе. Диалог? Скорее полилог, потому что этих неизвестных и других в человеке, оказывается, довольно много.
Кое-какой подспудный диалог возникает здесь, скорее, между читателем и автором. Читатель: «Так скажи, наконец, кто ты на самом деле!» Автор: «Не скажу. Сам не знаю. Спроси у себя».
Нельзя сказать, что автор нарочно отказывает читателю в помощи. Стратегически Сабуров далек от герметичности, но его стихи сплошь и рядом оказываются в тех местах, где действительно все неясно. Он их не ищет, но и не избегает.
Неясна и его собственная позиция: говорящий находится словно в нескольких точках одновременно – или между этими точками. Но и источник его речи (то самое откуда) не там, где говорящий существует в любой момент времени. Движение центробежно, а источник – в той точке, с которой оно началось.
Но чье это движение? В случае Сабурова знакомые обозначения «автор» или «протагонист» надо брать в дополнительные кавычки, а лучше заменить словом «речь». Это речь пользуется свойствами и навыками автора, перенимает его дикцию, – но и присваивает его, переиначивает на свой лад. Это не он, а она движется в неизвестном направлении, как будто удаляясь от своего начала, источника, а на деле странным образом приближаясь к нему. Но никогда не совпадая: такое совпадение ликвидировало бы «сопротивление материала».
Вот цитата (записанная с голоса) из одного радиоинтервью Сабурова: «Я не романтик, и слово „высказаться" нужно употреблять осторожно. Поэт не высказывается, а что-то лепит „из тяжести недоброй“. Для этого такая тяжесть должна существовать».
Не очень понятно, что чему предшествует, что было в начале. Я думаю, что и здесь в начале было слово, и поэзия заимствует у автора его психику, временами «одевается» в нее, чтобы – подобно человеку-невидимке – хоть как-то выглядеть. Сабуров – автор в этом отношении совершенно бесстрашный – делает поэзией даже крайние области своего опыта. Но и поэзия отвечает ему новым состоянием; отзывается качающейся конструкцией стиха, плещущим ритмом стиховой фразы.
Через эти стихи идет какой-то ветер. Ощутимый и в перечислительном речитативе, когда сдерживается и набирает силу, где-то он вырывается прямо, как из распахнувшегося окна. Мы чувствуем его направление, силу и даже вкус.
Все падает и все взмывает вверх,
как сыплет лепестки и поднимает души
тот ветер, что нам губы сушит,
срывает крыши, покрывает грех.
Сам воздух этих стихов дышит резко, простудно. Понятно, что его больше в тех вещах, что так или иначе связаны с Крымом, родиной автора. Там остался такой запас, что хватило на всю жизнь. Эти воздух и ветер для Сабурова одновременно морские и родные, они – волнение в крови, волны расходятся в другие области, и стихи обнаруживаются там, где море слов волнуется.
и на черном-черном море – ложкой ешь! —
на густом, луной просвеченном
мы с тобою проплываем меж
ночью-вечером
В русской поэзии много стихов о Крыме, но их писали приезжие, а Сабуров – уроженец, у его Крыма есть климат и рельеф, но он лишен античных мотивов и коннотаций. (Они зато обильно присутствуют в ранних стихах нашего автора, да те и сами носятся как менады.)
Ветер – самый частый гость в крымских стихах Сабурова. Он дует из морской дали или дали временной, – из детства, отрочества. Может, он принес бы ответ – объяснение вечному, необузданному беспокойству? Но нет, он только усиливает смятение, закладывает уши, слышишь один говорящий шум собственной крови, хаос звуков.
Так и называется центральная поэма Сабурова: «Хаос звуков». Название очень точное. «О, слепые слова! О, клубки неродившихся звуков! / Вас ведет не наследник миров, а случайный прохожий». Думаю, что Сабуров ощущал себя одновременно и случайным прохожим, и наследником миров. Он физически чувствовал идущий на него хаос звуков и учился быть его поводырем. Каждое его стихотворение – какая-то «стоячая» звуковая волна, а само единство синтаксиса и «мелодического жеста» – из области мелоса.
«Оказывается, что иногда эта поэзия живет и пытается работать по не очень-то привычным для этого искусства законам музыкальных композиций. Темы и вариации появляются, сменяют друг друга, наплывают, исчезают, чтобы появиться обновленными – но узнаваемыми. Письмо Сабурова становится – в своем роде – „хорошо темперированным клавиром“» (Т. Нешумова).
Попутно идет формальное перерождение его поэм: из цикла тематически связанных стихотворений – в новую оригинальную форму. Каждое стихотворение обнаруживает прямое родство не только с ближайшими, но и с дальними соседями. Цикл становится единым текстом, звучащим попеременно в разных регистрах.
Сабуров всегда писал много и бурно: в едином потоке рождались большой корпус или цикл, или поэма, а в завершение – книга поэм. С низкого старта сразу набирал скорость, та быстро становилась предельной, в очередной раз вынося его за пределы прежних возможностей.
Стихи точно не становились хуже. Становились ли лучше? Сабуров любил цитировать ответ знакомого экономиста на вопрос: «Так будет лучше или хуже?» Тот, подумав, ответил: «Будет иначе». Вот и я точно знал, что будет иначе: что стихи будут другими и по-другому свободными (а настоящую радость дает именно это – новая свобода).
Он двигался очень быстро и постоянно менялся. Сабуров шестидесятых-семидесятых, восьмидесятых-девяностых и двухтысячных – это по существу разные авторы. У критика здесь очередная проблема: в результате нужно описывать не одного автора, а по крайней мере трех.
В восьмидесятые годы в стихах Сабурова появляется что-то совсем новое: экономная значительность новеллы. Ткань лирического текста постепенно становится проницаемой: допускает будничный тон, прямую до резкости бытовую интонацию (по принципу «таков мой организм») или саркастическую реплику. («Все так глупо и все так запутано», «Бог с ними, кушать не просят».) Едва ли не производственный отчет:
Вновь назначенный начальник
службы укрепленья линий
сползших масс береговых
клятвенно нам обещает
– кровь из носу, нож поддых —
Больше оползни не пикнут.
Именно в этом длинном стихотворении «Словно оползень слизал» (1980 или 1981) я впервые почувствовал у Сабурова другой, охлажденный, эпический ток. Нужно уточнить: охлажденным ощущалось не само слово, а его движение, ритм. Порывистое от природы авторское дыхание здесь смешалось с движением общего воздуха.
«Ожидаются смех, страсть и холод, / ожидаются лица неизвестные и известные». Не только ожидаются, но и появляются в стихах действующие лица, которых иначе как персонажами не назовешь. С неизбежностью заявляется фабула, но лирическая (не фельетонная). «Во всеоружии всех мыслимых законов / извилистой неоднозначной прозы / поэт вступает в область розы / одним из многих насекомых». Но и фабула, и узнаваемая точность деталей здесь все же частности, едва ли не приемы. Новым качеством текста было как раз появление в нем «общего» воздуха.
Тут очень на руку оказались некоторые человеческие свойства Сабурова: интерес к новому, готовность к игровому контакту. Открытость неожиданным впечатлениям, крайне редкая для нашей среды и вообще для того времени, когда способность наращивать панцирь равнялась способности выжить.
На прогулке по набережной Судака (1984) Женя корил меня за охранительную замкнутость и потерю Интересов. Этот неудобный для меня разговор прервал посторонний худой старик, обратившийся с какой-то просьбой (время? сигарета?), без паузы перешедшей в автобиографию. Запас вежливости и терпения у обоих слушателей истощился как будто одинаково скоро, но через какое– то время рассказчик объявился вновь – в Женином стихотворении «Привязчивый прохожий инвалид». Там он был не просто похож на себя, но и рассказал о себе больше (хоть и короче), чем удалось при личной встрече.
Но только ли о себе? «И однажды / он бросит жить. Его душа болит». Похоже, и предшествующий разговор тоже каким-то краем вошел в стихотворение.
Такая открытость помогла Сабурову – одному из первых – уловить изменение в отношениях «человек – реальность». В лирику семидесятых, где реальность присутствовала как фантомная боль, шло Новое время; действующие лица с портретным сходством входили в стихи на равных правах, тесня превращенные образы. Реальность оборачивалась лицом. Сначала «командировочный на койке отдыхал», потом вслед за тенями ялтинского детства в стихи «пришли взыскавшие карьеры офицеры». А там уже и «компания соизмеряла силы», открывая дорогу будущим прозаседавшимся «энтузиастам в коридорах власти».
Эти фигуры увидены очень внимательным взглядом, лишенным навязанных лирике эмоций, как возвышенного, так и демонического свойства. Есть что-то взрывоопасное в самой интонации скучливого перечисления, в том спокойствии, с которым протагонист-наблюдатель показывает нам невеселый пейзаж упущенных возможностей. Пейзаж не ахти, жизнь при нем не ахти какая. В Сабуровских стихах о мире, в котором надо жить, слышно глубинное эхо идиосинкразии. Высказывание сочетает трезвое наблюдение с незаживающей досадой человека действия. Но дело в том, что это первый план, а не единственный, и в скорби нет ни оттенка брезгливости.
Трезвость редко оказывается в списке поэтических достоинств. Но этот взгляд на мир трезв так непривычно, что становится художественной новацией. Появляется более ровный тон, иногда глуховатый, иногда (в самых удачных случаях) уходит в бесплотность, в какое-то пленочное звучание; становится шелестом.
Лирика смотрит в сторону прозы; неомодернизм – в сторону конкретизма. (Недаром Сабуров, вообще-то не разбрасывавшийся любовью к авторам-современникам, так любил Всеволода Некрасова.) Смотрит внимательно, но по разным причинам не приближается. Назовем хотя бы одну.
Конкретизм – поэзия очень сдержанная, почти пуристская. На ее поверхности трудно заметить, например, какое-либо эротическое возмущение. Что, впрочем, не говорит об отсутствии эротики. Лирика эротична ровно в той мере, что и наша чувствительность.
Внимательному слуху понятен сомнительный (возможно, подсознательный) исток внешне вполне пристойных образов. Но Сабуров – с его невероятной витальностью – не был бы самим собой, если бы этим и ограничился. Он вообще никогда не хотел и не старался соблюдать правила (чуть не сказал «приличия»). «Спазма, сперма – не по-русски. / А по-русски как сказать?». Есть строчки, которые я, заботясь о нашем целомудренном читателе, не стану приводить, хотя иногда это просто цитаты (см. «Как у Ронсара сказано удачно»). Одну строфу все же приведу:
угрюмоветренное небо, ложнозначительный покой
и пляшу себе умалишенный,
бедный, неудавшийся, пустой.
Сабуров, проживший несколько жизней одновременно, как– то слишком хорошо понимал тех, кто не прожил ни одной. Как будто заодно захватил и такую – неудавшуюся – судьбу, в полной мере испытав ужас общей участи, когда непоправимо даже то, что ты родился на свет.
Самая живая, самая незаживающая утрата – утрата небывшего, неслучившегося. Кто не ощущает ее боль, того едва ли можно назвать живым.
Случается, что человек становится камнем («человеком из мрамора»), только бы сохранить какую-то форму. Нет, это не случай Сабурова. Ни на каких условиях он не соглашался быть мертвым даже на йоту.
Стол печали застели и пей,
пей и пой, ах! пой себя не помня
произросший яростно репей
на заброшенной сто лет каменоломне.
То мне чудится, я темнота и ночь,
чей-то сын, а может, чья-то дочь,
то мне снится, будто я один.
Солнце. День. И я ничей не сын.
Что-то очень необычное есть в том, как возникают стихи Сабурова; в способе их порождения можно различить странную, почти свирепую одержимость. «Страшно жить отцеубийце / все кругом играют в лицах / весь души его клубок». Но и стихи делают то же самое: «играют в лицах весь души его клубок». А поскольку играют (поэзия по Сабурову – игра), да еще «в лицах», то иной раз переходят черту, хватают через край (тебя же, читатель, и хватают через край).
Есть интонации, от которых делается не по себе. Иногда кажется, что Сабуров знает о жизни и то, что лучше бы не знать. Ка– кие-то зловещие нотки не оставляют в покое. Такое знание непонятно откуда взялось, автор его не звал и на нем не настаивает. Оно возникает в стихах помимо его воли, налетает как тень, как сон. Сами стихи знают что-то устрашающее. Стихотворение своим ходом оказывается в «сумрачном лесу» – области невыразимой и вещей тревоги. Оно выталкивает на сцену второе, теневое «я» и говорит его голосом.
Это не назовешь монологом, речь обращена не к другому, и даже не к другому в самом себе. Это речь другого, неизвестного, обращенная к себе. Диалог? Скорее полилог, потому что этих неизвестных и других в человеке, оказывается, довольно много.
Кое-какой подспудный диалог возникает здесь, скорее, между читателем и автором. Читатель: «Так скажи, наконец, кто ты на самом деле!» Автор: «Не скажу. Сам не знаю. Спроси у себя».
Нельзя сказать, что автор нарочно отказывает читателю в помощи. Стратегически Сабуров далек от герметичности, но его стихи сплошь и рядом оказываются в тех местах, где действительно все неясно. Он их не ищет, но и не избегает.
Неясна и его собственная позиция: говорящий находится словно в нескольких точках одновременно – или между этими точками. Но и источник его речи (то самое откуда) не там, где говорящий существует в любой момент времени. Движение центробежно, а источник – в той точке, с которой оно началось.
Но чье это движение? В случае Сабурова знакомые обозначения «автор» или «протагонист» надо брать в дополнительные кавычки, а лучше заменить словом «речь». Это речь пользуется свойствами и навыками автора, перенимает его дикцию, – но и присваивает его, переиначивает на свой лад. Это не он, а она движется в неизвестном направлении, как будто удаляясь от своего начала, источника, а на деле странным образом приближаясь к нему. Но никогда не совпадая: такое совпадение ликвидировало бы «сопротивление материала».
Вот цитата (записанная с голоса) из одного радиоинтервью Сабурова: «Я не романтик, и слово „высказаться" нужно употреблять осторожно. Поэт не высказывается, а что-то лепит „из тяжести недоброй“. Для этого такая тяжесть должна существовать».
Не очень понятно, что чему предшествует, что было в начале. Я думаю, что и здесь в начале было слово, и поэзия заимствует у автора его психику, временами «одевается» в нее, чтобы – подобно человеку-невидимке – хоть как-то выглядеть. Сабуров – автор в этом отношении совершенно бесстрашный – делает поэзией даже крайние области своего опыта. Но и поэзия отвечает ему новым состоянием; отзывается качающейся конструкцией стиха, плещущим ритмом стиховой фразы.
Через эти стихи идет какой-то ветер. Ощутимый и в перечислительном речитативе, когда сдерживается и набирает силу, где-то он вырывается прямо, как из распахнувшегося окна. Мы чувствуем его направление, силу и даже вкус.
Все падает и все взмывает вверх,
как сыплет лепестки и поднимает души
тот ветер, что нам губы сушит,
срывает крыши, покрывает грех.
Сам воздух этих стихов дышит резко, простудно. Понятно, что его больше в тех вещах, что так или иначе связаны с Крымом, родиной автора. Там остался такой запас, что хватило на всю жизнь. Эти воздух и ветер для Сабурова одновременно морские и родные, они – волнение в крови, волны расходятся в другие области, и стихи обнаруживаются там, где море слов волнуется.
и на черном-черном море – ложкой ешь! —
на густом, луной просвеченном
мы с тобою проплываем меж
ночью-вечером
В русской поэзии много стихов о Крыме, но их писали приезжие, а Сабуров – уроженец, у его Крыма есть климат и рельеф, но он лишен античных мотивов и коннотаций. (Они зато обильно присутствуют в ранних стихах нашего автора, да те и сами носятся как менады.)
Ветер – самый частый гость в крымских стихах Сабурова. Он дует из морской дали или дали временной, – из детства, отрочества. Может, он принес бы ответ – объяснение вечному, необузданному беспокойству? Но нет, он только усиливает смятение, закладывает уши, слышишь один говорящий шум собственной крови, хаос звуков.
Так и называется центральная поэма Сабурова: «Хаос звуков». Название очень точное. «О, слепые слова! О, клубки неродившихся звуков! / Вас ведет не наследник миров, а случайный прохожий». Думаю, что Сабуров ощущал себя одновременно и случайным прохожим, и наследником миров. Он физически чувствовал идущий на него хаос звуков и учился быть его поводырем. Каждое его стихотворение – какая-то «стоячая» звуковая волна, а само единство синтаксиса и «мелодического жеста» – из области мелоса.
«Оказывается, что иногда эта поэзия живет и пытается работать по не очень-то привычным для этого искусства законам музыкальных композиций. Темы и вариации появляются, сменяют друг друга, наплывают, исчезают, чтобы появиться обновленными – но узнаваемыми. Письмо Сабурова становится – в своем роде – „хорошо темперированным клавиром“» (Т. Нешумова).
Попутно идет формальное перерождение его поэм: из цикла тематически связанных стихотворений – в новую оригинальную форму. Каждое стихотворение обнаруживает прямое родство не только с ближайшими, но и с дальними соседями. Цикл становится единым текстом, звучащим попеременно в разных регистрах.
Сабуров всегда писал много и бурно: в едином потоке рождались большой корпус или цикл, или поэма, а в завершение – книга поэм. С низкого старта сразу набирал скорость, та быстро становилась предельной, в очередной раз вынося его за пределы прежних возможностей.
Стихи точно не становились хуже. Становились ли лучше? Сабуров любил цитировать ответ знакомого экономиста на вопрос: «Так будет лучше или хуже?» Тот, подумав, ответил: «Будет иначе». Вот и я точно знал, что будет иначе: что стихи будут другими и по-другому свободными (а настоящую радость дает именно это – новая свобода).
Он двигался очень быстро и постоянно менялся. Сабуров шестидесятых-семидесятых, восьмидесятых-девяностых и двухтысячных – это по существу разные авторы. У критика здесь очередная проблема: в результате нужно описывать не одного автора, а по крайней мере трех.
В восьмидесятые годы в стихах Сабурова появляется что-то совсем новое: экономная значительность новеллы. Ткань лирического текста постепенно становится проницаемой: допускает будничный тон, прямую до резкости бытовую интонацию (по принципу «таков мой организм») или саркастическую реплику. («Все так глупо и все так запутано», «Бог с ними, кушать не просят».) Едва ли не производственный отчет:
Вновь назначенный начальник
службы укрепленья линий
сползших масс береговых
клятвенно нам обещает
– кровь из носу, нож поддых —
Больше оползни не пикнут.
Именно в этом длинном стихотворении «Словно оползень слизал» (1980 или 1981) я впервые почувствовал у Сабурова другой, охлажденный, эпический ток. Нужно уточнить: охлажденным ощущалось не само слово, а его движение, ритм. Порывистое от природы авторское дыхание здесь смешалось с движением общего воздуха.
«Ожидаются смех, страсть и холод, / ожидаются лица неизвестные и известные». Не только ожидаются, но и появляются в стихах действующие лица, которых иначе как персонажами не назовешь. С неизбежностью заявляется фабула, но лирическая (не фельетонная). «Во всеоружии всех мыслимых законов / извилистой неоднозначной прозы / поэт вступает в область розы / одним из многих насекомых». Но и фабула, и узнаваемая точность деталей здесь все же частности, едва ли не приемы. Новым качеством текста было как раз появление в нем «общего» воздуха.
Тут очень на руку оказались некоторые человеческие свойства Сабурова: интерес к новому, готовность к игровому контакту. Открытость неожиданным впечатлениям, крайне редкая для нашей среды и вообще для того времени, когда способность наращивать панцирь равнялась способности выжить.
На прогулке по набережной Судака (1984) Женя корил меня за охранительную замкнутость и потерю Интересов. Этот неудобный для меня разговор прервал посторонний худой старик, обратившийся с какой-то просьбой (время? сигарета?), без паузы перешедшей в автобиографию. Запас вежливости и терпения у обоих слушателей истощился как будто одинаково скоро, но через какое– то время рассказчик объявился вновь – в Женином стихотворении «Привязчивый прохожий инвалид». Там он был не просто похож на себя, но и рассказал о себе больше (хоть и короче), чем удалось при личной встрече.
Но только ли о себе? «И однажды / он бросит жить. Его душа болит». Похоже, и предшествующий разговор тоже каким-то краем вошел в стихотворение.
Такая открытость помогла Сабурову – одному из первых – уловить изменение в отношениях «человек – реальность». В лирику семидесятых, где реальность присутствовала как фантомная боль, шло Новое время; действующие лица с портретным сходством входили в стихи на равных правах, тесня превращенные образы. Реальность оборачивалась лицом. Сначала «командировочный на койке отдыхал», потом вслед за тенями ялтинского детства в стихи «пришли взыскавшие карьеры офицеры». А там уже и «компания соизмеряла силы», открывая дорогу будущим прозаседавшимся «энтузиастам в коридорах власти».
Эти фигуры увидены очень внимательным взглядом, лишенным навязанных лирике эмоций, как возвышенного, так и демонического свойства. Есть что-то взрывоопасное в самой интонации скучливого перечисления, в том спокойствии, с которым протагонист-наблюдатель показывает нам невеселый пейзаж упущенных возможностей. Пейзаж не ахти, жизнь при нем не ахти какая. В Сабуровских стихах о мире, в котором надо жить, слышно глубинное эхо идиосинкразии. Высказывание сочетает трезвое наблюдение с незаживающей досадой человека действия. Но дело в том, что это первый план, а не единственный, и в скорби нет ни оттенка брезгливости.
Трезвость редко оказывается в списке поэтических достоинств. Но этот взгляд на мир трезв так непривычно, что становится художественной новацией. Появляется более ровный тон, иногда глуховатый, иногда (в самых удачных случаях) уходит в бесплотность, в какое-то пленочное звучание; становится шелестом.
Лирика смотрит в сторону прозы; неомодернизм – в сторону конкретизма. (Недаром Сабуров, вообще-то не разбрасывавшийся любовью к авторам-современникам, так любил Всеволода Некрасова.) Смотрит внимательно, но по разным причинам не приближается. Назовем хотя бы одну.
Конкретизм – поэзия очень сдержанная, почти пуристская. На ее поверхности трудно заметить, например, какое-либо эротическое возмущение. Что, впрочем, не говорит об отсутствии эротики. Лирика эротична ровно в той мере, что и наша чувствительность.
Внимательному слуху понятен сомнительный (возможно, подсознательный) исток внешне вполне пристойных образов. Но Сабуров – с его невероятной витальностью – не был бы самим собой, если бы этим и ограничился. Он вообще никогда не хотел и не старался соблюдать правила (чуть не сказал «приличия»). «Спазма, сперма – не по-русски. / А по-русски как сказать?». Есть строчки, которые я, заботясь о нашем целомудренном читателе, не стану приводить, хотя иногда это просто цитаты (см. «Как у Ронсара сказано удачно»). Одну строфу все же приведу:
угрюмоветренное небо, ложнозначительный покой
Другие электронные книги автора Евгений Сабуров
Тоже мне новости




 1.6
1.6