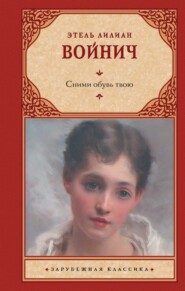По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Овод
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не могу тебя понять, – устало повторил Монтанелли. – О каком выборе говоришь ты? Ведь прошлого изменить нельзя.
– Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и уйдемте со мной в иной мир. Мои друзья организуют новую попытку побега, и с вашей помощью им легко будет привести ее в исполнение. Когда же мы будем по ту сторону границы в полной безопасности, признайте меня публично своим сыном. Если же вы недостаточно любите меня для этого, если ваша вера вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но в таком случае идите сейчас же, немедленно, избавьте меня от пытки видеть вас. Мне и без того нелегко.
Монтанелли поднял голову. Теперь он начал понимать. Силы изменили ему, дрожь охватила тело.
– Я, конечно, снесусь с твоими друзьями. Но идти с тобой мне невозможно – ведь я священник.
– А от священника я не приму услуги. Не надо больше компромиссов, падре! Довольно я страдал от них и их последствий. Или вы откажетесь ради меня от церкви, или откажетесь от меня.
– Как я расстанусь с тобой, Артур?! Как я расстанусь с тобой?!
– Ну, так расставайтесь с церковью. Выбирайте между нами двумя. Не предлагайте мне поделить вашу любовь между нами: половину мне, а половину церкви. Я не хочу крох с ее стола.
– Артур, Артур, неужели ты хочешь разорвать мое сердце на части?! Неужели ты хочешь довести меня до безумия?
Овод ударил рукой по стене.
– Выбирайте между нами двумя, – повторил он еще раз.
Монтанелли достал спрятанный на груди его небольшой бумажник и вынул оттуда смятую, истершуюся бумажку.
– Смотри, – сказал он.
«Я верил в вас, как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь».
Овод засмеялся и вернул ему бумажку.
– Каким чудесно молодым бываешь в девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им вещи кажется таким легким делом. Это так же легко и теперь, но только я сам попал под молот. Ну а вы еще немало найдете народу, который будете дурачить, и они этого никогда даже не поймут.
– Делай как хочешь, – сказал Монтанелли. – Бог знает, может быть, и я на твоем месте был бы так же беспощаден, но я не могу сделать того, чего ты требуешь, Артур, я сделаю только то, что смогу. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, то со мной произойдет несчастный случай в горах, или я по ошибке приму что-нибудь другое вместо сонного порошка, – выбирай любое. Удовлетворит ли это тебя? Вот все, что я могу сделать. Это большой грех, но я надеюсь, что Он простит меня. Он милосерднее…
Крик страдания вырвался у Овода, и руки его опустились в отчаянии.
– О, это слишком! Это уж слишком! Что я сделал, чтобы вы обо мне так думали? Какое право имеете вы… Как будто я мстить вам собираюсь! Неужели вы не понимаете, что я только спасти вас хочу? Неужели вы никогда не поймете, как я люблю вас?
Он схватил обе руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемежку со слезами.
– Падре, пойдемте со мной! Что у вас общего с этим мертвым миром ошибок и заблуждений? Ведь они – прах истекших веков! Ведь они прогнили насквозь, и от них веет смрадом разложения! Уйдемте со мной из этого мира в другой мир, полный света! Падре, мы – жизнь и молодость, мы – вечная весна, мы – будущее человечества. Падре, заря уж близко, – неужели вы не возьмете на себя своей доли труда, чтобы помочь взойти солнцу? Проснитесь, и забудем страшные ночные кошмары! Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново! Падре, я всегда любил вас, всегда! Даже когда вы убивали меня. Неужели вы еще раз убьете?
Монтанелли в отчаянии заломил руки.
– Господи, смилуйся надо мной! – вскрикнул он. – Артур, у тебя глаза твоей матери!
Потом наступило вдруг долгое, глубокое молчание. Они глядели друг на друга в сером полумраке спускающегося вечера, и сердца их застыли от ужаса.
– Скажи мне еще что-нибудь, – прошептал Монтанелли. – Подай хоть какую-нибудь надежду.
– Мне нечего больше говорить. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, а нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож.
Монтанелли повернулся к распятию:
– Господи! Ты слышишь?..
Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Демон насмешки проснулся вдруг в Оводе:
– Г-громче зовите!
Монтанелли вскочил, будто его ударили. С минуту он неподвижно глядел перед собой. Потом присел на край сенника, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод задрожал всем телом, и холодный пот выступил на его лбу. Он понял, что значат эти слезы.
Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать. Довольно уже с него было и того, что приходилось умирать, чувствуя прилив бодрой, могучей жизни.
Но звуков нельзя было заглушить. Они раздавались в его ушах, стучали в мозгу, слезы одна за другой скатывались с его пальцев.
Потом рыдания Монтанелли затихли, и он принялся вытирать глаза платком, словно дитя, переставшее плакать. Когда он встал, платок скатился с его колен и упал на пол.
– Бесполезно говорить дальше, – сказал он. – Ты понимаешь меня?
– Да, понимаю, – ответил Овод с мрачной покорностью. – Это не ваша вина.
Монтанелли повернулся к нему. И наступившее вдруг молчание было страшнее молчания могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них.
Молча глядели они друг другу в глаза, как два насильно разлученных любовника глядят один на другого через преграду, которую они не могут переступить.
Овод первый не выдержал и опустил глаза. Он отшатнулся, спрятал лицо, и Монтанелли понял, что этот жест говорил ему: «уходи». Он повернулся и вышел из камеры.
Но прошла еще минута, и Овод вдруг вскочил.
– О, я не могу этого вынести! Падре, вернись! Вернись!
Дверь была заперта. Долгим медленным взглядом обвел он стены своей камеры и понял, что все кончено.
Внизу, на дворе, всю ночь шелестела трава – трава, которой вскоре суждено было увять, оторванной ударом заступа от родных корней. И всю ночь напролет одиноко рыдал узник в своей темной камере…
Глава VII
Во вторник утром происходил военный суд.
Он продолжался очень недолго и прошел как нельзя более просто. Это была лишь пустая формальность, длившаяся всего двадцать минут. Да и незачем было тратить много времени. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненый шпион, офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен: Монтанелли послал согласие, которого добивались. Судьям – полковнику Феррари, местному драгунскому майору и двум офицерам швейцарской гвардии[78 - Швейцарская гвардия – наемные войска папского правительства, которые комплектовались из швейцарцев.] – оставалось только довершить. Прочли обвинительный акт. Свидетели дали показания. Скрепили подписями приговор и прочли его осужденному с соответствующей торжественностью. Он молча выслушал его, а когда его спросили, согласно принятой форме, хочет ли он что-нибудь сказать, он только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и проплакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо его теперь было бледно и безжизненно, и вокруг глаз виднелись еще следы слез. Слова «к расстрелу», видимо, мало подействовали на него. Когда он их услыхал, зрачки его глаз расширились – и только.
– Отведите в камеру, – приказал полковник, когда все формальности были закончены.
Сержант, который, видимо, едва выдерживал эту сцену, тронул за плечо неподвижную фигуру осужденного. Овод посмотрел на него почти с испугом.
– А, да! – промолвил он. – Я и забыл.
Полковник вдруг вернул сержанта, который уже выходил с арестантом из комнаты:
– Подождите, сержант! Мне нужно ему что-то сказать.