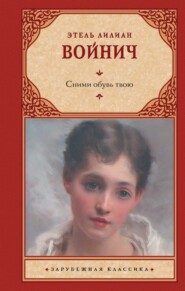По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Овод
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я сказал, что вы, вероятно, возьмете на себя сообщить ей эту новость.
Ужас отразился на лице Мартини.
– Как я могу сказать ей? – вскрикнул он. – Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее. О, как я скажу ей, как я скажу?
Он закрыл руками глаза. Но, и не видя, он почувствовал, как вздрогнул контрабандист, и поднял голову. Джемма стояла в дверях.
– Слышали, Чезаре? – сказала она. – Все кончено. Они его расстреляли.
Глава VIII
– Introido ad abtare Dei![10 - Припадем к престолу Божьему (лат.) – вступительные слова молитвы. «Introit» – ее название (по первому слову).]
Монтанелли стоял перед главным престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом и весь сверкал радужными красками. Все, от праздничных одежд молящихся и до колонн, покрытых яркими тканями и увитых венками цветов, было полно жизни и блеска. Над открытой настежь дверью спускались тяжелые пунцовые занавесы, и жаркие лучи июньского солнца пронизывали их насквозь, как пронизывают они в поле лепестки красных маков. Обыкновенно полутемные боковые приделы освещались теперь свечами и факелами стоявших там представителей монашеских орденов. Там же высились кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых притворов стояли знамена процессии, и их шелковые складки ниспадали до земли, а позолоченные кисти и древки ярко горели под темными сводами. Лившийся сквозь цветные стекла окон свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, среди украшений и огней, выступала неподвижная фигура кардинала в длинном белом облачении, словно статуя, в которую вдохнули жизнь.
Обычай требовал, чтобы в дни процессий он только открывал обедню, но не служил. Кончив Indulgentiam[11 - Молитва об отпущении грехов.], он отошел от престола и медленно направился к епископскому трону. Священники и члены причта, мимо которых он проходил, отвешивали ему низкие поклоны.
– Боюсь, что его преосвященство не совсем здоров, – шепотом сказал один каноник другому, – у него такой странный вид.
Служба продолжалась обычным порядком. Монтанелли сидел выпрямившись, не двигая ни одним мускулом. Солнце играло на его сверкающей камнями митре и вышитой золотом одежде. Тяжелые складки белой праздничной мантии упали на алый ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на груди его. Но глубокие неподвижные глаза оставались тусклыми, и солнечный луч не вызвал в них ответного блеска. Когда раздались слова «Benedicite, pater eminentissime»[12 - Благословите, высокопреосвященнейший отче (лат.).], он наклонился, чтобы благословить кадила.
При выносе Святых Даров он встал со своего трона и опустился на колени перед престолом, потом поднялся и пошел назад на свое место. Все его движения были как-то странно однообразны. Драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал раненому капитану:
– Сдает старик кардинал, сдает – это дело ясное. Смотрите: он совершенно машинально исполняет все и как будто не сознает, что делает.
– Тем лучше, – ответил тоже шепотом капитан. – Он вечно был у нас бельмом на глазу со времени этой проклятой амнистии.
– Насчет военного суда он, однако, уступил.
– Да, в конце концов уступил. Но немало ему понадобилось времени, чтобы решиться. Господи боже мой, как душно! Всех нас хватит солнечный удар, пока окончится процессия. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин. Тсс! Дядюшка мой на нас глядит.
Когда обедня отошла и Святые Дары были поставлены под стекло в ковчег, который должны нести в процессии, духовенство отправилось в ризницу переодеться.
В церкви там и сям шептались. Монтанелли продолжал сидеть на троне, устремив вперед неподвижный взгляд. Целый океан людских волн, казалось, бушевал вокруг его трона, замирая у его ног. Ему принесли кадило, и автоматическим жестом, не глядя ни вправо, ни влево, он положил ладан в курильницу.
Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он, казалось, застыл в своей позе. Священник, отправлявший обязанности диакона, наклонился к нему, чтобы снять с него митру, и сказал не без колебания:
– Ваше преосвященство!
Кардинал оглянулся:
– Что вы сказали?
– Вполне ли вы уверены, что у вас хватит сил идти в процессии? Солнце жжет немилосердно.
– Какое мне дело до солнца?
Монтанелли говорил спокойным, размеренным голосом, и священник подумал, не рассердил ли он его.
– Простите, ваше преосвященство. Мне показалось, что вы нездоровы.
Монтанелли встал, не отвечая. На верхней ступеньке трона он остановился и спросил все тем же странно размеренным голосом:
– Что это такое?
Края его длинного белого облачения спустились со ступенек и лежали на полу алтаря.
Вытянув палец, он указал на огненное пятно на белом атласе.
– Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.
– Солнечный луч? Разве он красный?
Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его священнику. Солнце легло цветными пятнами на его обнаженную голову, ударило в широко открытые, обращенные кверху глаза и осветило багряным блеском его белую мантию, складки которой священники расправляли вокруг него.
Он взял у диакона священный золотой ковчег и стоял, держа его в руках, пока звучала торжественная мелодия.
Подошли служители и подняли над головой его шелковый балдахин; священники, отправлявшие обязанности диаконов, стали по правую и по левую сторону его и откинули назад длинные складки его мантии; свеченосцы наклонились, чтобы приподнять с пола край его рясы. Монашеские братства, ставшие во главе процессии, уже вышли на середину церкви и двинулись вперед двумя стройными рядами.
Неподвижно стоял Монтанелли у престола под белым балдахином, держа твердой рукой Святые Дары и глядя на проходящую процессию. Люди шли по двое в ряд, с горящими свечами и факелами, крестами, хоругвями, знаменами и флагами. Они медленно спустились со ступенек алтаря, прошли между разубранных цветами колонн под приподнятой пунцовой занавесью на дверях и вышли на залитую лучами солнца улицу. Звуки пения шедших впереди постепенно замирали, переходя в неясный гул, и за ними раздавались, поглощая их, все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и долго не затихали под сводами собора человеческие шаги.
Прошли члены церковных приходов в своих белых саванах, с закрытыми лицами. Потом показались братья милосердия, все в черном. Их глаза сверкали из-под масок. За ними потянулись длинными рядами монахи. Прошли нищенствующие братья в своих черных капюшонах, с босыми загорелыми ногами; потом все в белом суровые доминиканцы. Дальше шли военные и гражданские власти: драгуны, карабинеры и чины местной полиции. Начальник города шел в полной парадной форме, окруженный сослуживцами-офицерами. Шествие замыкали диакон с большим крестом и два свеченосца с горящими свечами.
Дверные занавеси широко раздвинулись, чтобы пропустить их. Со своего места под балдахином Монтанелли увидал на мгновение ярко освещенную солнцем и покрытую ковром улицу, увешанные флагами стены домов и одетых в белое детей, бросавших на мостовую розы. Ах, эти розы! Какие они красные!
Медленно, в стройном порядке подвигалась процессия. Монтанелли открыл крестный ход.
Он сошел со ступеньки алтаря, вышел на середину церкви, прошел под хорами, откуда неслись торжественные звуки органа, потом под занавесью у входа – такой нестерпимо красной! Вот он и на улице, где так ослепительно светло. Кроваво-красные розы лежат, увядая, на красном ковре, растоптанные ногами бесчисленных прохожих. Минутная остановка у двери, где представители светской власти сменяют носильщиков балдахина, потом процессия снова двигается вперед, и он идет с нею, сжимая в руках ковчег со Святыми Дарами. Вокруг него голоса певчих то широко разливаются, то замирают, и в такт им ритмически качаются кадила и рокочут волны людского моря.
Все кровь да кровь! Ковер расстилается перед ним кроваво-красным потоком, розы лежат на камнях точно пятна разбрызганной крови… Милосердный Господь! Неужели подвластные Тебе земля и небо стали вокруг красными от крови? Но что Тебе до этого, всемогущий Боже!
Он взглянул на причастие через хрустальную стенку ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами ковчега и медленно каплет на его белое облачение? Что он видел подобное этому, капавшее… капавшее с приподнятой руки? Трава на тюремном дворе была помята и красна… совершенно красна… так много было крови. Она стекала со щеки, капала из простреленной правой руки и хлынула горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью… да, волосы лежали на лбу мокрые и спутанные… это от предсмертного пота… он выступил от ужасных страданий. Голоса певчих поднялись выше, раздались торжествующие звуки:
Genitori, genitoque,
Laus ef jubilatio
Salus, honor, virtus, quoque.
Sit et benedictio![13 - Хвала и превозношение Отцу и Сыну; да будет благоденствие, честь, добродетель и благословение! (лат.)]
О, это невозможно вынести! Боже, Ты сидишь на троне на Небесах и взираешь вниз на мучения и смерть. Неужели мало этого? Неужели нужны еще хвалы и славословия? Тело Христово, преломленное для спасения людей! Кровь Христова, пролитая для искупления их грехов… Разве и этого мало?
Да, громче зови его! Он, чего доброго, спит!
Ты в самом деле спишь, дорогой мой возлюбленный, и никогда уж больше не проснешься? Разве могила так ревниво охраняет свою добычу и черная яма под деревом никогда не откроется, чтобы выпустить тебя хоть ненадолго, ненаглядный мой мальчик?
Процессия вернулась в собор.
Звуки пения уже умолкли, когда Монтанелли вошел в храм. Он проходил между молчаливыми рядами монахов и священников, уже занявших свои места и стоявших на коленях с высоко поднятыми горящими свечами в руках.