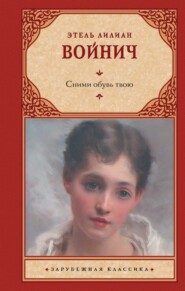По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Овод
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно, я никому не расскажу. Подождите минутку.
Она остановила его, когда он уже повернулся, чтобы уйти, и стала рыться у себя в кошельке. Оскорбленный, он попятился назад.
– Мне не нужно ваших денег, – сказал он грубовато. – Я сделал это для него: он просил меня. Для него я сделал бы и больше. Он был так добр ко мне, спаси его, Господи.
Легкая дрожь в его голосе заставила ее поднять голову. Медленным движением руки он вытирал глаза грязным рукавом.
– Мы должны были его расстрелять, – продолжал он тихим голосом. – Мои товарищи и я… Солдату приходится слушаться приказаний начальника. Мы дали промах… А он смеялся над нами. Называл нас неумелым отрядом. Нужно было снова стрелять… Он был так добр ко мне.
В комнате воцарилось молчание. Он выпрямился, неловко отдал честь и вышел.
Несколько минут она стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села читать у открытого окна.
Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно разборчивы. Они были написаны по-английски.
«Дорогая Джим» – стояло там.
Строки вдруг расплылись и подернулись туманом. И она его потеряла опять! Она его потеряла! При виде этого детского прозвища перед ней снова встала безнадежность ее потери, и она опустила руки в бессильном отчаянии, как будто вся тяжесть земли, лежавшей на нем, навалилась ей на сердце.
Затем она опять поднесла листок и стала читать:
«Завтра утром на рассвете меня расстреляют, и, так как я хочу выполнить мое обещание сказать вам все, я должен сделать это теперь. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми.
Итак, вы видите, моя дорогая, не к чему вам было терзать свое сердце из-за того, что когда-то вы ударили меня. Это был тяжелый удар для меня. Но потом мне пришлось вынести немало и других таких же, и, однако, я пережил их. Кое за что даже отплатил. И здесь, в тюрьме, я, как рыбка в нашей детской книжке – забыл ее название, – «жив и бью хвостом». Бью хвостом в последний раз… А завтра утром – finita la comedia[14 - Представление окончено (ит.).]. Воздадим благодарность богам за то, что они для нас сделали. Это не много, но все же кое-что. Мы должны быть признательны и за это.
А что касается завтрашнего утра, мне хочется, чтобы вы оба – и вы и Мартини – знали, что я совершенно счастлив и удовлетворен и что мне больше нечего просить у судьбы. Передайте это Мартини, как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ… Он поймет. Я знаю, дорогая, что, попирая насущные интересы народа и возвращаясь к тайным пыткам и казням, они играют нам на руку, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что, если вы, живые, будете крепко стоять друг за друга и сделаете решительный натиск, вам предстоит увидеть великие события. А я завтра выйду во двор с таким же радостным сердцем, с каким ребенок бежит на праздник домой. Свою долю работы я совершил, а смертный приговор говорит за то, что я сделал ее добросовестно. Они убивают меня потому, что боятся меня. А чего же больше может желать человек?
Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Человек, который идет на смерть, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был таким грубым с вами и не мог забыть старых обид.
Вы, впрочем, и сами понимаете почему, и я говорю об этом – мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в ситцевом платьице, с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните тот день, когда я поцеловал вашу руку и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это была скверная выходка, но вы должны простить. А теперь я целую бумагу, на которой написал ваше имя. Выходит, что я дважды поцеловал вас, и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!»
Подписи не было, но в конце письма стояло стихотворение, которое они учили вместе, когда были детьми:
Я счастливый мотылек,
Буду жить я иль умру…
Полчаса спустя в комнату вошел Мартини. Полжизни он скрывал свои чувства к ней, а теперь, увидев ее горе, не выдержал и, выронив объявление, которое было у него в руке, обнял ее.
– Джемма! Что такое? Ради бога! Не рыдайте так! Вы ведь никогда не плакали! Джемма! Джемма, дорогая, любимая моя!
– Ничего, Чезаре. Я расскажу вам после… я… теперь… я не могу говорить.
Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо и, поднявшись, высунулась в окно, чтобы скрыть свое лицо. Мартини закусил губы. Первый раз за все эти годы он, точно школьник, выдал себя, а она даже не заметила.
– Что это? Гудит соборный колокол, – сказала она после короткого молчания, оглянувшись на него. Самообладание вернулось к ней. – Должно быть, кто-то умер.
– Об этом-то я и пришел вам сказать, – ответил Мартини обычным голосом.
Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой.
«Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньор Лоренцо Монтанелли внезапно скончался в Равенне от разрыва сердца».
Она быстро подняла голову от листка, и Мартини, пожимая плечами, ответил на ее невысказанную мысль:
– Что же вы думаете, мадонна? Разрыв сердца такое же благовидное объяснение, как и всякое другое.
notes
Сноски
1
Земляника! Земляника! (ит.)
2
Сударь (фр.).
3
Овод (фр.).
4
Очаровательно (фр.).
5
Князь (фр.).
6
Эй, Пьеро! Танцуй, Пьеро!
Попляши-ка, друг Жанно! (фр.)
7
Уходите, господа, вы мне надоели! (фр.)
8
О, святая простота! (лат.)
9
На войне как на войне! (фр.)
10
Она остановила его, когда он уже повернулся, чтобы уйти, и стала рыться у себя в кошельке. Оскорбленный, он попятился назад.
– Мне не нужно ваших денег, – сказал он грубовато. – Я сделал это для него: он просил меня. Для него я сделал бы и больше. Он был так добр ко мне, спаси его, Господи.
Легкая дрожь в его голосе заставила ее поднять голову. Медленным движением руки он вытирал глаза грязным рукавом.
– Мы должны были его расстрелять, – продолжал он тихим голосом. – Мои товарищи и я… Солдату приходится слушаться приказаний начальника. Мы дали промах… А он смеялся над нами. Называл нас неумелым отрядом. Нужно было снова стрелять… Он был так добр ко мне.
В комнате воцарилось молчание. Он выпрямился, неловко отдал честь и вышел.
Несколько минут она стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села читать у открытого окна.
Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно разборчивы. Они были написаны по-английски.
«Дорогая Джим» – стояло там.
Строки вдруг расплылись и подернулись туманом. И она его потеряла опять! Она его потеряла! При виде этого детского прозвища перед ней снова встала безнадежность ее потери, и она опустила руки в бессильном отчаянии, как будто вся тяжесть земли, лежавшей на нем, навалилась ей на сердце.
Затем она опять поднесла листок и стала читать:
«Завтра утром на рассвете меня расстреляют, и, так как я хочу выполнить мое обещание сказать вам все, я должен сделать это теперь. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми.
Итак, вы видите, моя дорогая, не к чему вам было терзать свое сердце из-за того, что когда-то вы ударили меня. Это был тяжелый удар для меня. Но потом мне пришлось вынести немало и других таких же, и, однако, я пережил их. Кое за что даже отплатил. И здесь, в тюрьме, я, как рыбка в нашей детской книжке – забыл ее название, – «жив и бью хвостом». Бью хвостом в последний раз… А завтра утром – finita la comedia[14 - Представление окончено (ит.).]. Воздадим благодарность богам за то, что они для нас сделали. Это не много, но все же кое-что. Мы должны быть признательны и за это.
А что касается завтрашнего утра, мне хочется, чтобы вы оба – и вы и Мартини – знали, что я совершенно счастлив и удовлетворен и что мне больше нечего просить у судьбы. Передайте это Мартини, как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ… Он поймет. Я знаю, дорогая, что, попирая насущные интересы народа и возвращаясь к тайным пыткам и казням, они играют нам на руку, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что, если вы, живые, будете крепко стоять друг за друга и сделаете решительный натиск, вам предстоит увидеть великие события. А я завтра выйду во двор с таким же радостным сердцем, с каким ребенок бежит на праздник домой. Свою долю работы я совершил, а смертный приговор говорит за то, что я сделал ее добросовестно. Они убивают меня потому, что боятся меня. А чего же больше может желать человек?
Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Человек, который идет на смерть, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был таким грубым с вами и не мог забыть старых обид.
Вы, впрочем, и сами понимаете почему, и я говорю об этом – мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в ситцевом платьице, с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните тот день, когда я поцеловал вашу руку и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это была скверная выходка, но вы должны простить. А теперь я целую бумагу, на которой написал ваше имя. Выходит, что я дважды поцеловал вас, и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!»
Подписи не было, но в конце письма стояло стихотворение, которое они учили вместе, когда были детьми:
Я счастливый мотылек,
Буду жить я иль умру…
Полчаса спустя в комнату вошел Мартини. Полжизни он скрывал свои чувства к ней, а теперь, увидев ее горе, не выдержал и, выронив объявление, которое было у него в руке, обнял ее.
– Джемма! Что такое? Ради бога! Не рыдайте так! Вы ведь никогда не плакали! Джемма! Джемма, дорогая, любимая моя!
– Ничего, Чезаре. Я расскажу вам после… я… теперь… я не могу говорить.
Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо и, поднявшись, высунулась в окно, чтобы скрыть свое лицо. Мартини закусил губы. Первый раз за все эти годы он, точно школьник, выдал себя, а она даже не заметила.
– Что это? Гудит соборный колокол, – сказала она после короткого молчания, оглянувшись на него. Самообладание вернулось к ней. – Должно быть, кто-то умер.
– Об этом-то я и пришел вам сказать, – ответил Мартини обычным голосом.
Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой.
«Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньор Лоренцо Монтанелли внезапно скончался в Равенне от разрыва сердца».
Она быстро подняла голову от листка, и Мартини, пожимая плечами, ответил на ее невысказанную мысль:
– Что же вы думаете, мадонна? Разрыв сердца такое же благовидное объяснение, как и всякое другое.
notes
Сноски
1
Земляника! Земляника! (ит.)
2
Сударь (фр.).
3
Овод (фр.).
4
Очаровательно (фр.).
5
Князь (фр.).
6
Эй, Пьеро! Танцуй, Пьеро!
Попляши-ка, друг Жанно! (фр.)
7
Уходите, господа, вы мне надоели! (фр.)
8
О, святая простота! (лат.)
9
На войне как на войне! (фр.)
10