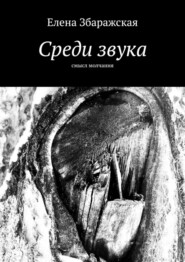По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Соизволением твоим. Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
владений твоих,
теперь вместо ног у меня – плавник,
так легче тебя проплывать всего…
Вкушаю тебя с камнями подводными,
скалою сложившимися,
на соль пробую,
отдаюсь желаниям бессмысленным,
кружу в тебе, плавясь, как воск при огне,
моё море —
безропотное, тихое, поддающееся,
нежное, дрожащее…
Люблю,
пою теперь
для тебя и в тебе
русалочьи песни
кричащие
чьи-то живы боги
Отцвела рубаха,
скомкались манжеты.
Тело – чернь, ожоги.
И внутри раздетый.
А в кулак зажата
До сих пор надежда —
Рукоять зонта,
Да того уж нету.
Вместо плащаницы
Спицы и замочки,
Небо век открыто
В свете оболочки.
Медленно ржавею
Без воды и ласки,
Оттеняю пустошь
Неприглядной массой.
Мне бы замки строить,
Но гнию под солнцем.
Я давно здесь мёртвый:
Чьи-то живы боги
ветрянка
Белый космос открылся,
и в нём не видны блики света,
в районе шести утра исключительный дрейф —
сыреющей мыслью вся жизнь убегает в постскриптум
и всё, что любилось, опять замерзает в зиме.
Она остаётся в том месте,
где север взрывается,
где смехом людским выжимается чуждая голь,
где богом прощается грех – умирать, проклиная,
и где не пикируют чайки над чёрной водой.
И только слова разбросались
ветрянкой по пустоши,
в которых ещё что-то теплится, греет нутро.
Зима не приходит одна,
и не кончится в пятницу,
и мечется ведьмой любовь, исчезая в мирах
полынь
Пропах полынью дом твой тихий
в часы луны ущербной, властной,
где твёрдость слов, когда-то милых,
толчёным льдом валилась навзничь,
и каждонощно – вдох, как выдох,
питался горечью помятой
сухих бутонов эстрагона —
так одинокость уст дрожала.
теперь вместо ног у меня – плавник,
так легче тебя проплывать всего…
Вкушаю тебя с камнями подводными,
скалою сложившимися,
на соль пробую,
отдаюсь желаниям бессмысленным,
кружу в тебе, плавясь, как воск при огне,
моё море —
безропотное, тихое, поддающееся,
нежное, дрожащее…
Люблю,
пою теперь
для тебя и в тебе
русалочьи песни
кричащие
чьи-то живы боги
Отцвела рубаха,
скомкались манжеты.
Тело – чернь, ожоги.
И внутри раздетый.
А в кулак зажата
До сих пор надежда —
Рукоять зонта,
Да того уж нету.
Вместо плащаницы
Спицы и замочки,
Небо век открыто
В свете оболочки.
Медленно ржавею
Без воды и ласки,
Оттеняю пустошь
Неприглядной массой.
Мне бы замки строить,
Но гнию под солнцем.
Я давно здесь мёртвый:
Чьи-то живы боги
ветрянка
Белый космос открылся,
и в нём не видны блики света,
в районе шести утра исключительный дрейф —
сыреющей мыслью вся жизнь убегает в постскриптум
и всё, что любилось, опять замерзает в зиме.
Она остаётся в том месте,
где север взрывается,
где смехом людским выжимается чуждая голь,
где богом прощается грех – умирать, проклиная,
и где не пикируют чайки над чёрной водой.
И только слова разбросались
ветрянкой по пустоши,
в которых ещё что-то теплится, греет нутро.
Зима не приходит одна,
и не кончится в пятницу,
и мечется ведьмой любовь, исчезая в мирах
полынь
Пропах полынью дом твой тихий
в часы луны ущербной, властной,
где твёрдость слов, когда-то милых,
толчёным льдом валилась навзничь,
и каждонощно – вдох, как выдох,
питался горечью помятой
сухих бутонов эстрагона —
так одинокость уст дрожала.