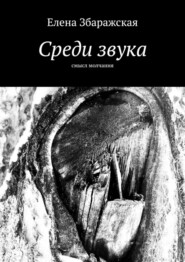По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Соизволением твоим. Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
готскими расстояниями
между мёртвым и запахом сумерек,
между любимым и тишиной
в образе вещи,
и она, может быть, снится разумному,
что умеет положить
сердце на место
в тлеющем времени
для воплощения
в будущем
среди одинокого, зябкого
жёлтый
Вот, если бы сердце
вернуть мне с морей,
несклёванным
жирными чайками,
возможно бы,
вставила между костей,
скрутила бы
временно – с гайками,
чтоб снова немного
учиться любить
и чувствовать
землю привычную,
вдыхать кислород
с дальтоном частиц
и пиццу жевать
с оливками,
стоять без одежд
под тотальным дождём,
пока в коньяке
тонет солнце,
да, море
исчезло,
песок, как
сырец,
и чайки
давно
уже
сдохли
негодное
Когда исчезну я из мира твоего,
скоси все травы и цветы,
убей всех птиц, сожги деревья,
закрой пути всем рекам и моря испей,
закрась всё небо грязным цветом,
и воздуху не дай кружить ветрами,
и песни вычеркни повсюду,
забудь все звуки, что шептались,
и мыслям дай заснуть, чтоб дни казались
ночью бесконечной,
кроши столетия мгновений —
создай своё – из праха и пустот,
когда исчезну я…
Не смею оставлять всё то,
что для тебя душою создавала —
теперь пришло в негодность…
«Негодное» моим осталось
как дети
Боги как дети,
для них всё естественно,
так же как мы, ошибаются,
чтут.
Реки ногами их все
перемешаны,
чтобы не дважды —
единожды.
Ноль начинается с дырки,
до минуса сходятся пальцы
зачатых сердец,
боль предначертана,
ей окольцовано
несовершенное место.
Ответ спрятан под
веками снов из прошедшего,
под антикодами старой зари,
новое сбудется и перемелется,
и у фатальности есть рубежи.
Тело не маятник,
чувство не фокусник,
суть языка – не касаться земли.
Небо заправлено
осенью.
Тихо.
Боги взрослеют,
меняя черты
белая осень
Белый закат лёг ребром
на широкие улицы,
равно внутри сжалось зло и добро
в многослойный кокон.
между мёртвым и запахом сумерек,
между любимым и тишиной
в образе вещи,
и она, может быть, снится разумному,
что умеет положить
сердце на место
в тлеющем времени
для воплощения
в будущем
среди одинокого, зябкого
жёлтый
Вот, если бы сердце
вернуть мне с морей,
несклёванным
жирными чайками,
возможно бы,
вставила между костей,
скрутила бы
временно – с гайками,
чтоб снова немного
учиться любить
и чувствовать
землю привычную,
вдыхать кислород
с дальтоном частиц
и пиццу жевать
с оливками,
стоять без одежд
под тотальным дождём,
пока в коньяке
тонет солнце,
да, море
исчезло,
песок, как
сырец,
и чайки
давно
уже
сдохли
негодное
Когда исчезну я из мира твоего,
скоси все травы и цветы,
убей всех птиц, сожги деревья,
закрой пути всем рекам и моря испей,
закрась всё небо грязным цветом,
и воздуху не дай кружить ветрами,
и песни вычеркни повсюду,
забудь все звуки, что шептались,
и мыслям дай заснуть, чтоб дни казались
ночью бесконечной,
кроши столетия мгновений —
создай своё – из праха и пустот,
когда исчезну я…
Не смею оставлять всё то,
что для тебя душою создавала —
теперь пришло в негодность…
«Негодное» моим осталось
как дети
Боги как дети,
для них всё естественно,
так же как мы, ошибаются,
чтут.
Реки ногами их все
перемешаны,
чтобы не дважды —
единожды.
Ноль начинается с дырки,
до минуса сходятся пальцы
зачатых сердец,
боль предначертана,
ей окольцовано
несовершенное место.
Ответ спрятан под
веками снов из прошедшего,
под антикодами старой зари,
новое сбудется и перемелется,
и у фатальности есть рубежи.
Тело не маятник,
чувство не фокусник,
суть языка – не касаться земли.
Небо заправлено
осенью.
Тихо.
Боги взрослеют,
меняя черты
белая осень
Белый закат лёг ребром
на широкие улицы,
равно внутри сжалось зло и добро
в многослойный кокон.