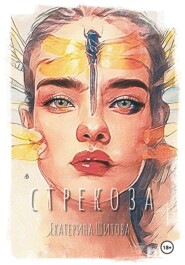По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жабья царевна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жабья царевна
Екатерина Шитова
Иринушка бросила нежеланного ребенка в лесу, чтобы в родной деревне ее не заклеймили позором. После этого она начала новую жизнь: вышла замуж за достойного мужчину, родила дочь. Все эти годы она жила без угрызений совести, как будто ничего страшного не сделала. Но брошенное в лесу дитя не сгинуло бесследно, оно превратилось в нежить – темную, нечистую, страшную сущность. Все это время нежить росла и крепла, обитая на болоте. А теперь она жаждет лишь одного – мести.
Сможет ли Иринушка спасти себя и свою семью от жуткого зла, которое она сама же и породила?
Екатерина Шитова
Жабья царевна
Глава 1
Лес у Зеленого озера тревожно шумел. Беспокойный ветер трепал кусты, обрывая с них зеленую листву, кружа ее между высокими, шероховатыми стволами высоченных елей и сосен. Бескрайние топи, тянущиеся вдаль до самого горизонта, укрылись плотным туманом, который не смог бы рассеять даже самый сильный ветер. Вода у берегов, поросших рогозом, потемнела до черноты, пошла крупной рябью. Птицы притихли, звери попрятались в норы, прижались к земле, и только озерные жабы громко и пронзительно квакали.
Небо заволокло темными, тяжелыми тучами, наполненными дождем. Вот-вот потоки воды хлынут на землю, наполнят воздух прохладой и тяжелой влагой. Ветер завывал все сильнее. Вековые деревья с натужными скрипами раскачивались из стороны в сторону, молодая поросль клонилась к самой земле. Яркая молния рассекла небо огненной вспышкой, и тут же землю сотряс мощный раскат грома. Ураган набирал силу, будто хотел сравнять все кругом с землей.
Лес шумел… Он всегда шумел, когда что-то случалось. Жуткое предательство сегодня произошло здесь. Мать с надвинутым на лоб платком принесла на руках свое новорожденное дитя и положила маленький кулек в густые кусты у самого берега. Она не плакала, ее щеки были сухими, а в темных глазах не было ни капли жалости или сожаления. Торопливо оглянувшись по сторонам, она бросилась бежать прочь и бежала так быстро, как только могла, не оглядываясь, зажав уши, чтобы не слышать громкого, пронзительного плача оставленного на берегу младенца. А когда шаги ее стихли, ветер взревел, и началась гроза. Непогода была поистине страшной, но еще страшнее была материнская нелюбовь, которая, словно ядовитый дым, отравила воздух вокруг…
Брошенное дитя надрывалось от плача: маленькое круглое личико посинело, сморщилось, тельце затряслось в судорогах, тонкий голосок превратился в хрип. Когда ураган стал совсем яростным, кусты рядом с ребенком зашевелились, листья рогоза раздвинулись. На кричащее дитя уставились круглые желтые глаза. И вскоре две худые, длинные руки схватили маленький кулек, подняли с влажной земли и крепко прижали к впалой, обвислой груди. У озера буйствовала гроза, а странное существо с несоразмерно большой головой, вытянутыми конечностями и зеленой пупырчатой кожей, сгорбившись, прыгало по высокой траве, издавая громкие пронзительные звуки, похожие на кваканье.
Младенец притих в крепких объятиях, успокоился, сунул в рот кулачок. Существо замерло на миг, остановившись на самом краю высокого обрыва. А потом прыгнуло в воду, прижав к груди свою маленькую ношу, и тут же ушло на дно. Круги на воде поползли в разные стороны, слились с крупной рябью волн, гонимых ветром к берегу…
Ураган еще долго буйствовал над лесом и озером, ломая и вырывая с корнями кусты и деревья, кружа в воздухе листья и гнилые коряги. А потом все стихло так же внезапно, как и началось. В синих сумерках, медленно опускающихся на землю, заквакали на разные лады лягушки, и где-то в вышине запела свою вечернюю грустную песнь озерная камышовка. Лес затих, погрузился в сон, укутавшись густыми сумерками. Все у Зеленого озера стало так, как прежде, будто ничего тут и не случилось.
***
Пять лет спустя
В окне дома на самом краю деревни виднелся тусклый свет. Осенняя ночь уже давно заволокла узкие, извилистые улочки густым, холодным туманом, в темноте виднелись лишь иссиня-черные силуэты деревянных домов. Деревня спала, укрытая тихим безмолвием. Даже собаки, и те не лаяли – прятались в деревянных будках или под крылечками, спали, прикрыв носы всклокоченными хвостами. Ночь плыла над деревней, посылая всему живому крепкий сон, но в домике у самого леса все же не спали: около дрожащего огонька свечи сновала туда-сюда темная тень. Седовласая старуха ходила по избе, скрипя половицами, шептала что-то неразборчивое себе под нос, шумно, со свистом вздыхала.
Старуха была не одна, из темного угла кухни доносились глухие стоны. Молодая обнаженная женщина сидела на полу, ее пропитавшаяся кровью сорочка лежала рядом. Тяжелая грудь, прикрытая длинными черными волосами, свисала до круглого беременного живота.
– Воды… Дай воды… – прохрипела женщина, глядя умоляющими глазами на старуху.
Та зачерпнула деревянным ковшом воды из ведра, стоящего у дверей, и поднесла ковш к сухим, потрескавшимся губам женщины. Сделав несколько жадных глотков, роженица снова застонала. Старуха вытерла пот с измученного лица, похлопала женщину по спине, а потом, согнувшись, заглянула туда, откуда должен был выйти ребенок.
– Терпи, Иринушка, недолго мучиться осталось… – тихо проговорила она.
– Да как такое вытерпеть, бабушка Пелагея? Хуже смерти эта мука! – закричала женщина.
Старуха строго взглянула на нее, покачала головой.
– Ой, дура-дура! Не для себя ведь терпишь! Для дитятки! – проворчала она. – Ради дитятки родимого любая мать вытерпит в сто крат больше мук, чем ради себя самой.
– Не могу больше, не могу! – рычала женщина, упираясь горячим лбом в край лавки.
Лицо старой повитухи Пелагеи сморщилось, она тихонько рассмеялась.
– Вот увидишь личико своего дитятка, и все муки разом позабудешь. Все сможешь, милая ты моя, все сможешь. Недолго осталось мучиться.
Лицо молодой роженицы напряглось, покраснело от напряжения. Одна за другой мощные потуги выталкивали из ее чрева ребенка, и вот, он, наконец, появился на свет. Тяжело дыша, Иринушка с облегчением ждала первый детский крик, но в избушке вдруг повисла странная тишина. Молодая мамаша испуганно посмотрела на старуху. Та склонилась к младенцу, лежащему на полу, и что-то делала с ним.
– Бабушка Пелагея? – позвала Иринушка.
Голос ее, охрипший от крика, задрожал, на душе стало нехорошо.
– Погодь! Пуповину распутываю. Вот ведь горюшко – завязалась узлом прямо на шейке! – ответила старуха.
Освободив младенца от толстой пуповины, она перерезала ее ножом, а потом взяла неподвижное тельце и принялась трясти его, растирать и похлопывать. Склонившись к крошечной, слегка вытянутой головке, покрытой светлыми волосами, повитуха прочитала несколько молитв, но все было без толку – ребенок не шевелился, не кричал, личико его было синим и безжизненным. Положив маленькое тельце на стол, старуха обернулась к бледной, как снег, Иринушке.
– Ох, бедняжка! Как и сказать тебе такое? – она замолчала, но потом продолжила, – Помер твой младенчик. Зря только мучилась…
Иринушка вскочила на ноги, почувствовав, как вниз по голым ногам потекла теплая кровь.
– Да куда ж ты? Стой! – голос повитухи стал строгим. – Послед еще не вышел! Навредишь себе, и сама следом издохнешь!
Но Иринушка будто не слышала слов старухи. Она уставилась на тельце младенца, неподвижно лежащее на столе, и глаза ее наполнились слезами. Откинув за спину длинные волосы, она подошла к ребенку, взяла его на руки и поднесла к полной груди. Когда приоткрытые губки младенца коснулись пухлого коричневого соска, по телу Иринушки побежали мурашки. Она затряслась всем телом, по щекам потекли слезы, а из груди капнула капля желтого молозива. Эта маленькая капелька смочила маленькие посиневшие губки ребенка, и он вдруг встрепенулся, втянул в себя воздух и закричал – громко и пронзительно. А потом, почуяв на губах материнское молоко, жадно присосался к груди.
От сердца у Иринушки отлегло, она улыбнулась и посмотрела на повитуху победным взглядом.
– Не зря я мучилась, бабушка Пелагея! Жива моя доченька! – прошептала она.
Старуха всплеснула руками и заохала, запричитала от радости.
– Ох и девку ты народила! Ох и пронырлива будет! Едва родилась, а уже обманула старую бабку! Ну хитра!
Она подошла к Иринушке и погладила шершавой ладонью светлые волосики новорожденной девочки, похожие на легкий пух.
– А я уж решила, что тебя Бог за прошлый грех наказал, – прошептала старуха.
От этих слов щеки Иринушки вспыхнули огнем, она отвернулась в сторону и резко проговорила:
– Типун тебе на язык, бабушка Пелагея!
Повитуха помолчала, потому вздохнула тяжело.
– Эту-то девку себе оставишь, али как?
Иринушка резко повернула голову, обиженно поджала подбородок и воскликнула:
– Да что ты такое говоришь, бабушка Пелагея? Конечно, себе! Я ведь теперь замужняя жена! Васенька мой ребеночка пуще меня ждал! Пузо мое каждый вечер гладил. Вот вернется с ярмарки, порадуется дочери!
Старуха снова горестно вздохнула и покачала головой. Пошептав заговор на вышедший послед, она бросила его в печь. Потом обмыла руки, накинула на голову темный платок и направилась к двери. Остановившись у порога, она обернулась и тоскливо произнесла:
– Ту-то девчонку жалко. Крепкая, здоровенькая, чернявая такая была. А эта еле выползла из тебя, бледная, как поганка, еще и полудохлой оказалась.
– Забудь уже об этом, бабушка Пелагея. Я давно позабыла, и ты забудь, – строго проговорила Иринушка.
– Да как же забыть-то? Не забыть мне об том никогда! Я ее своими руками свету божьему показала. Вот помру, она мне там встретится и поколотит за все свои мучения!
Екатерина Шитова
Иринушка бросила нежеланного ребенка в лесу, чтобы в родной деревне ее не заклеймили позором. После этого она начала новую жизнь: вышла замуж за достойного мужчину, родила дочь. Все эти годы она жила без угрызений совести, как будто ничего страшного не сделала. Но брошенное в лесу дитя не сгинуло бесследно, оно превратилось в нежить – темную, нечистую, страшную сущность. Все это время нежить росла и крепла, обитая на болоте. А теперь она жаждет лишь одного – мести.
Сможет ли Иринушка спасти себя и свою семью от жуткого зла, которое она сама же и породила?
Екатерина Шитова
Жабья царевна
Глава 1
Лес у Зеленого озера тревожно шумел. Беспокойный ветер трепал кусты, обрывая с них зеленую листву, кружа ее между высокими, шероховатыми стволами высоченных елей и сосен. Бескрайние топи, тянущиеся вдаль до самого горизонта, укрылись плотным туманом, который не смог бы рассеять даже самый сильный ветер. Вода у берегов, поросших рогозом, потемнела до черноты, пошла крупной рябью. Птицы притихли, звери попрятались в норы, прижались к земле, и только озерные жабы громко и пронзительно квакали.
Небо заволокло темными, тяжелыми тучами, наполненными дождем. Вот-вот потоки воды хлынут на землю, наполнят воздух прохладой и тяжелой влагой. Ветер завывал все сильнее. Вековые деревья с натужными скрипами раскачивались из стороны в сторону, молодая поросль клонилась к самой земле. Яркая молния рассекла небо огненной вспышкой, и тут же землю сотряс мощный раскат грома. Ураган набирал силу, будто хотел сравнять все кругом с землей.
Лес шумел… Он всегда шумел, когда что-то случалось. Жуткое предательство сегодня произошло здесь. Мать с надвинутым на лоб платком принесла на руках свое новорожденное дитя и положила маленький кулек в густые кусты у самого берега. Она не плакала, ее щеки были сухими, а в темных глазах не было ни капли жалости или сожаления. Торопливо оглянувшись по сторонам, она бросилась бежать прочь и бежала так быстро, как только могла, не оглядываясь, зажав уши, чтобы не слышать громкого, пронзительного плача оставленного на берегу младенца. А когда шаги ее стихли, ветер взревел, и началась гроза. Непогода была поистине страшной, но еще страшнее была материнская нелюбовь, которая, словно ядовитый дым, отравила воздух вокруг…
Брошенное дитя надрывалось от плача: маленькое круглое личико посинело, сморщилось, тельце затряслось в судорогах, тонкий голосок превратился в хрип. Когда ураган стал совсем яростным, кусты рядом с ребенком зашевелились, листья рогоза раздвинулись. На кричащее дитя уставились круглые желтые глаза. И вскоре две худые, длинные руки схватили маленький кулек, подняли с влажной земли и крепко прижали к впалой, обвислой груди. У озера буйствовала гроза, а странное существо с несоразмерно большой головой, вытянутыми конечностями и зеленой пупырчатой кожей, сгорбившись, прыгало по высокой траве, издавая громкие пронзительные звуки, похожие на кваканье.
Младенец притих в крепких объятиях, успокоился, сунул в рот кулачок. Существо замерло на миг, остановившись на самом краю высокого обрыва. А потом прыгнуло в воду, прижав к груди свою маленькую ношу, и тут же ушло на дно. Круги на воде поползли в разные стороны, слились с крупной рябью волн, гонимых ветром к берегу…
Ураган еще долго буйствовал над лесом и озером, ломая и вырывая с корнями кусты и деревья, кружа в воздухе листья и гнилые коряги. А потом все стихло так же внезапно, как и началось. В синих сумерках, медленно опускающихся на землю, заквакали на разные лады лягушки, и где-то в вышине запела свою вечернюю грустную песнь озерная камышовка. Лес затих, погрузился в сон, укутавшись густыми сумерками. Все у Зеленого озера стало так, как прежде, будто ничего тут и не случилось.
***
Пять лет спустя
В окне дома на самом краю деревни виднелся тусклый свет. Осенняя ночь уже давно заволокла узкие, извилистые улочки густым, холодным туманом, в темноте виднелись лишь иссиня-черные силуэты деревянных домов. Деревня спала, укрытая тихим безмолвием. Даже собаки, и те не лаяли – прятались в деревянных будках или под крылечками, спали, прикрыв носы всклокоченными хвостами. Ночь плыла над деревней, посылая всему живому крепкий сон, но в домике у самого леса все же не спали: около дрожащего огонька свечи сновала туда-сюда темная тень. Седовласая старуха ходила по избе, скрипя половицами, шептала что-то неразборчивое себе под нос, шумно, со свистом вздыхала.
Старуха была не одна, из темного угла кухни доносились глухие стоны. Молодая обнаженная женщина сидела на полу, ее пропитавшаяся кровью сорочка лежала рядом. Тяжелая грудь, прикрытая длинными черными волосами, свисала до круглого беременного живота.
– Воды… Дай воды… – прохрипела женщина, глядя умоляющими глазами на старуху.
Та зачерпнула деревянным ковшом воды из ведра, стоящего у дверей, и поднесла ковш к сухим, потрескавшимся губам женщины. Сделав несколько жадных глотков, роженица снова застонала. Старуха вытерла пот с измученного лица, похлопала женщину по спине, а потом, согнувшись, заглянула туда, откуда должен был выйти ребенок.
– Терпи, Иринушка, недолго мучиться осталось… – тихо проговорила она.
– Да как такое вытерпеть, бабушка Пелагея? Хуже смерти эта мука! – закричала женщина.
Старуха строго взглянула на нее, покачала головой.
– Ой, дура-дура! Не для себя ведь терпишь! Для дитятки! – проворчала она. – Ради дитятки родимого любая мать вытерпит в сто крат больше мук, чем ради себя самой.
– Не могу больше, не могу! – рычала женщина, упираясь горячим лбом в край лавки.
Лицо старой повитухи Пелагеи сморщилось, она тихонько рассмеялась.
– Вот увидишь личико своего дитятка, и все муки разом позабудешь. Все сможешь, милая ты моя, все сможешь. Недолго осталось мучиться.
Лицо молодой роженицы напряглось, покраснело от напряжения. Одна за другой мощные потуги выталкивали из ее чрева ребенка, и вот, он, наконец, появился на свет. Тяжело дыша, Иринушка с облегчением ждала первый детский крик, но в избушке вдруг повисла странная тишина. Молодая мамаша испуганно посмотрела на старуху. Та склонилась к младенцу, лежащему на полу, и что-то делала с ним.
– Бабушка Пелагея? – позвала Иринушка.
Голос ее, охрипший от крика, задрожал, на душе стало нехорошо.
– Погодь! Пуповину распутываю. Вот ведь горюшко – завязалась узлом прямо на шейке! – ответила старуха.
Освободив младенца от толстой пуповины, она перерезала ее ножом, а потом взяла неподвижное тельце и принялась трясти его, растирать и похлопывать. Склонившись к крошечной, слегка вытянутой головке, покрытой светлыми волосами, повитуха прочитала несколько молитв, но все было без толку – ребенок не шевелился, не кричал, личико его было синим и безжизненным. Положив маленькое тельце на стол, старуха обернулась к бледной, как снег, Иринушке.
– Ох, бедняжка! Как и сказать тебе такое? – она замолчала, но потом продолжила, – Помер твой младенчик. Зря только мучилась…
Иринушка вскочила на ноги, почувствовав, как вниз по голым ногам потекла теплая кровь.
– Да куда ж ты? Стой! – голос повитухи стал строгим. – Послед еще не вышел! Навредишь себе, и сама следом издохнешь!
Но Иринушка будто не слышала слов старухи. Она уставилась на тельце младенца, неподвижно лежащее на столе, и глаза ее наполнились слезами. Откинув за спину длинные волосы, она подошла к ребенку, взяла его на руки и поднесла к полной груди. Когда приоткрытые губки младенца коснулись пухлого коричневого соска, по телу Иринушки побежали мурашки. Она затряслась всем телом, по щекам потекли слезы, а из груди капнула капля желтого молозива. Эта маленькая капелька смочила маленькие посиневшие губки ребенка, и он вдруг встрепенулся, втянул в себя воздух и закричал – громко и пронзительно. А потом, почуяв на губах материнское молоко, жадно присосался к груди.
От сердца у Иринушки отлегло, она улыбнулась и посмотрела на повитуху победным взглядом.
– Не зря я мучилась, бабушка Пелагея! Жива моя доченька! – прошептала она.
Старуха всплеснула руками и заохала, запричитала от радости.
– Ох и девку ты народила! Ох и пронырлива будет! Едва родилась, а уже обманула старую бабку! Ну хитра!
Она подошла к Иринушке и погладила шершавой ладонью светлые волосики новорожденной девочки, похожие на легкий пух.
– А я уж решила, что тебя Бог за прошлый грех наказал, – прошептала старуха.
От этих слов щеки Иринушки вспыхнули огнем, она отвернулась в сторону и резко проговорила:
– Типун тебе на язык, бабушка Пелагея!
Повитуха помолчала, потому вздохнула тяжело.
– Эту-то девку себе оставишь, али как?
Иринушка резко повернула голову, обиженно поджала подбородок и воскликнула:
– Да что ты такое говоришь, бабушка Пелагея? Конечно, себе! Я ведь теперь замужняя жена! Васенька мой ребеночка пуще меня ждал! Пузо мое каждый вечер гладил. Вот вернется с ярмарки, порадуется дочери!
Старуха снова горестно вздохнула и покачала головой. Пошептав заговор на вышедший послед, она бросила его в печь. Потом обмыла руки, накинула на голову темный платок и направилась к двери. Остановившись у порога, она обернулась и тоскливо произнесла:
– Ту-то девчонку жалко. Крепкая, здоровенькая, чернявая такая была. А эта еле выползла из тебя, бледная, как поганка, еще и полудохлой оказалась.
– Забудь уже об этом, бабушка Пелагея. Я давно позабыла, и ты забудь, – строго проговорила Иринушка.
– Да как же забыть-то? Не забыть мне об том никогда! Я ее своими руками свету божьему показала. Вот помру, она мне там встретится и поколотит за все свои мучения!