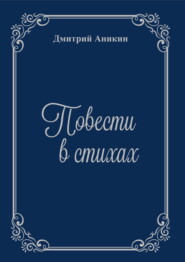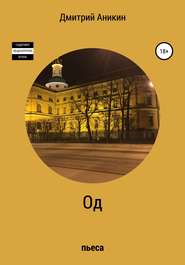По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новая жизнь
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
чтобы меня несли, как я ее,
ведь я еще не труп, передвигался
со свистом в легких, трением в костях.
Я б пошатнулся, я бы пал во прах,
в зовущую подлифтенную бездну:
что ждать конца в мученьях бесполезных?
Попам, что ль, верить, что какой-то грех
самоубийство… И похуже всех…
Но упустил момент – сомкнулись створы
и разомкнулись. Только разговоры
решимость вся моя – я жить хочу,
о смерти мерзкой только что шучу.
72
Переезд последний, тряский
кончен – серая больница
под таким же серым небом,
принимай меня! Я запах
чувствую обставшей смерти,
томный, тонкий, неизбывный, –
чем еще дышать больному?
Где другой есть, чистый воздух,
неприятный уже легким,
воздух их – живых и ловких?..
73
Здесь пропахло кровью, страхом,
изболевшеюся, серой
плотью, воровской столовой
с подгоревшею подливкой,
мытым полом, едким мылом,
спиртом, пролитым лекарством,
безнадежностью унылой
и безденежьем постыдным.
74
Из приемного покоя
еще вон, видна свобода:
жизнь людская, приминая
грязь московскую, несется,
раздаются крики, маты,
визги шин и рев клаксонов –
против правил успевают
прочь отсюда удалиться.
Их несет волна шальная –
бойтесь, люди, обернуться.
75
Я отсюда когда выйду,
то уже без боли, страха,
то под белою простынкой,
то не ежась в лютый холод –
в жар постылый, в огнь плавильный
вынесут вперед ногами…