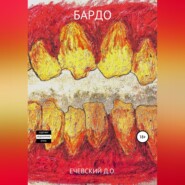По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бардо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Засохла. Она вспоминает. Щупает пальцами незнакомые прежде, такие “неожиданно ее” припухнутые неровности лица. Водит подушечками пальцев по коже. Засохшая кровь.
– Зачем ты пошла к нему? Зачем сделала это?
– Не знаю.
Вранье. Роман знает. Она знает, что он знает это. В этом вся игра.
– Ты сумасшедшая.
Неожиданно на ее порванных, припугнутых губах возникает нежная, наивная, отчаянная улыбка. Улыбочка-ребенок, который понимает, какую глупость совершил, но знает, что совершил бы ошибку еще, совершал б вновь и вновь, вновь и вновь, все в надежде на какой-нибудь другой исход, так как иного выхода для него нет. Эйнштейн сказал бы, что… Эйнштейн сказал бы, а она, глядя в глаза, смеется так, что у Романа накрапывают слезы.
– Сейчас я… Ты тут посиди. Я сейчас. Ненадолго.
И правда недолго. В руке почти бычок. Бычок? Вот что такое бычок? А, это молодой бык.
Затяг. Еще один. Еще один затяг. Скурил.
– А есть еще?
– Ну есть, но..
– Дай, пожалуйста, еще.
– Ну ок, хорошо.
Лена роется, рыщет. Глаза – обугленный метал, раскалены, кровоточат. Как красный, выпитый бокал, они хотят еще напиться, чтобы было чем пролиться на кровать.
– Вот, смотри, но только это не трава.
– Да по хер. Дай сюда. И зажигалку.
Огонь палит бумагу, дым ворчит, летит куда-то. Стены. В потолок летит и бьется о него, о стены гроба. Затяг. Еще одна затяжка. Легким тяжело, на сердце мягко. Будет мягче. Вот еще одна затяжка. Режет горло странный дым. В нем слишком вязко, все увязло. Утопают безнадежно все «пришло», «ушло» и «можно». Светом тает уголек, пожирая кислород. Вот затяжка, и еще одна. А в голове тревога и туман.
– Может, все-таки не будешь? Дай-ка мне!
– Нет-нет, я буду. Само то!
Углем полнится дурман. Всюду здесь притон, обман. Я покурю еще немного, станет все не так уж плохо. Темные тона, приливы и отливы дна. И лампочка засела, угнездилась наверху, заполняя дымом света комнатную тьму. Она стоит и смотрит, выжидая. Чего ждать? Она не знает. Вот затяжка. И еще одна. И тухнет пламя, догорая, как надгробная свеча. Было мало, стало слишком много. На душе мне было тяжело, а стало вмиг легко и больно. Жестом пламенным бычок в оконце. Блять. Промазал. Сознание размякло и осталось лишь на донце. Плохо.
– Дай воды. Во рту все пересохло.
Почему-то все в груди застряло и скребет истомно. Мягко, плавно, сильно, больно. Падаю. Где руки, что простерты снова? Нет руки?
– Ну на вот, пей воды.
– Спасибо.
Мне так все на этом свете мило. Вот же гнида! Ну зачем? Да, в общем, я… Короче. Надо спать. Лечь, укутаться, на правый бок. А со всем, что есть и будет, разберется Бог. Хотя, какой такой, блин, нахер? Сейчас не разобрать: где левый, а где правый. Нет. У стенки лучше. К ней прижмусь. Прижмусь, а там, быть может, и покинет грусть. Она. Она. Она. Да где же, ну? Я запутался лишь больше с тех самых пор, как я ищу.
– Ты там чего? Скажи мне, все нормально?
– Я не знаю. Как-то грустно и печально.
– Оно понятно.
– Я, наверно, спать.
– Ну ладно.
Есть лишь маленькая горсть причин вставать и целый мир причин устать. Да где же одеяло? Может быть, оно, как я, устало? Ноги подевались в пустоту. И дышат кровью безнадежные «да ну!» Она пропала, испарилась. Что с ней? Где она? Да вот же, снизу! Где? Не вижу? Испарилась, как слюна.
– А где вода?
– Ну вот бутылка на кровати.
– На кровати? На какой из них? И, кстати… Слушай… Дай, пожалуйста. Я не могу понять, где верх, где низ.
Она сует бутылку в руку. Как открыть, когда так плохо и так пусто? Крышка прям не хочет открываться. Ну поддайся, поддержи же братца! Ага, открылась. Льется водопадами. Не подавиться! Каждый мой глоток, как море в горле. Каждый мой глоток есть шанс покинуть это место, сдохнуть. Как пить, когда забыл, как жить? И что же там? Затем? Когда… Там ничего и пустота. Нет Я, кровати, Веры, Бога. Помню, в самом детстве я сидел один в ужасном кресле. Там, в уютном месте. И не помню почему, я провалился в пустоту. Впервые эта мысль… Одиноко… Что же будет после морга? Было ли все это, что здесь было? Или просто вечность пошутила? В этом самом кресле. Я один, я понял, я почувствовал, как все уходит, оставляя лишь порог в прихожей. Куда она, когда она мне так нужна? а-Мама-ма-Мама-маМа. Наверно, в магазин. Вернется скоро. А может, никогда уж не вернется. Мама… Ты прости меня. Никогда-никогда-никогда. Она ведь тоже пропадет? Уже пропала. Оставив лишь могилу, горы хлама: фотографии, альбомы, платья, серьги и воспоминанья в доме. Дом ушел. А ведь я знал еще тогда, вернись она, все ж не вернется никогда. а-Мама-ма-Мама-маМа. От воды пьянит сильнее, чем от крепкого вина. Да, постой-ка, но ведь это не твоя вина. а-Мама-ма-Мама-маМа. Никогда-никогда-никогда. И все, что бывало, бывает и будет носит и носит, уносится тоже. Ты посмотри, как мне больно. Уносится вдаль, как слюна. а-Мама-ма-Мама-маМа.
А я помню, как ты мне сказала впервые. Сказала впервые. Сказала, что любишь меня. И обнять тебя – это единственное, то единственное, то едино-единственное, то, о чем я мечтал и мечтаю. Спасибо тебе. Твои волосы. Впершись в них, впершись лишь, можно дышать. Ты прости мне, прости, мне так жаль, мне так жаль, мне так жаль. И я в них, я дышу. И такое прегрустное счастье. И счастье все душит так грустно. Ведь я. Это я. Я во всем виноват. Ну прости мне, наверно, покажется странным, но… Можно мне, можно тебя обниму? Если я не… Глаза. Я просто хочу, очень сильно хочу кого-нибудь, ну, обнять. Для меня это… Я. Прошу, ну впусти меня! Знаю. Я люблю тебя. Говори со мной. Запах твой. Сводишь с ума. Так останься. Давай просто ляжем. И спать. В этом мире нигде не остаться. Лишь под одеялом. С тобой. Негде остаться. Обними меня. Не в ком остаться. Давай мы останемся здесь. Навечно мы есть. Никого нет навечно. Лишь тени домов. И лишь моя тень на стене. Ведь я призрак, который с тобой. Так люблю, если близко, ты близко, ты близко, ты так далеко, когда близко. А губы и волосы отдай мне, отдай. Я люблю твои ноги, ресницы. А руки – тонкие струйки, что тянутся вверх и так тихо волнуются над головами. Никто. Я никто без тебя. Я люблю, когда ты улыбаешься, я улыбаюсь. Иначе умру. А я можно тебя поцелую? А смерть лишь приходит, скажи, почему же тогда, почему ты ушла? Ну а если бы мир создавался твоими руками, скажи мне, ты бы осталась?
– Мне плохо.
– Что такое?
– Я не знаю. Ноги сковывает. Легким больно. Я не чувствую, как дышат. И тело падает куда-то, ниже.
– Успокойся.
– Не могу.
– На вот плед, укройся.
– Почему?
– Что?
– Почему я один?
Роман начинает плакать.
– Почему я один? Почему никого нет? Я так устал от всего.
Его тело содрогается. Кривятся губы. По лицу морщины скулятся.
– Ты не один.
– Я совсем один. Она ушла. Здесь нет никого. Я несу какую-то чушь тупую. Никакой я не писатель, я просто больной и несчастный человек и не понимаю. Не могу. Я не могу. Я просто не могу больше. Где она?
Другие электронные книги автора Данил Олегович Ечевский
Другие аудиокниги автора Данил Олегович Ечевский
Бардо




 0
0