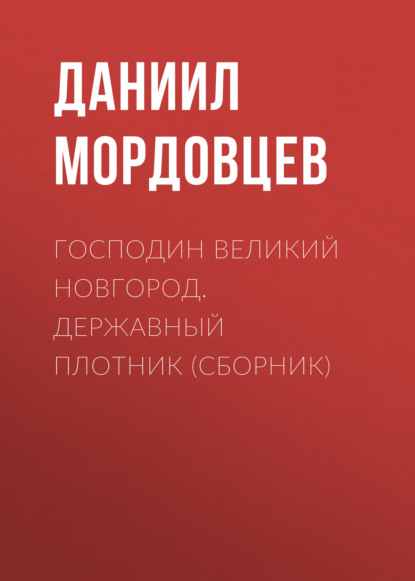По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот теперь его привели на казнь пред лицо всего Новгорода. Он казался спокойным, только бледнее обыкновенного и задумчивее. Глаза его, видимо, искали кого-то в толпе и не находили… Он грустно качал головой, как бы говоря: «Нет, не увижу, и в этот последний час не увижу…»
Вечевая площадь была полна народа, но он безмолвствовал. Не привыкли новгородцы видеть казни. В пылу разгара политических страстей, в порыве всенародного увлеченья они не задумывались забивать каменьями посадников и житых людей, топить своих лиходеев в Волхове, как собак; но это делалось в минуты вспышек. А видеть, как человека, который стоял смирно и не защищался, будут убивать обдуманно, хладнокровно, – этого видеть вольным новгородцам не доводилось…
И посадник, и все власти смотрели с помоста такими сумрачными. И им казалось тяжким казнить новгородца.
Даже палача для этого дела нельзя было найти в Новгороде: никто не соглашался убивать хладнокровно беззащитного брата своего.
Выискался какой-то «чудин» из «скудельнаго места»[73 - Кладбище.] – гробокопатель, и ему вручили огромный, заржавевший, хотя теперь и отточенный топор палача.
Упадыш стоял лицом к помосту. Около него палач с топором и рогожным мешком да несколько ратников с бердышами.
– Господо и братие! – дрожащим голосом сказал посадник. – Вы знаете вины человека сего… За измену Святой Софии и Господину Великому Новгороду повинен есть смерти… Право мое слово?
– Право, господине… – нерешительно отозвалось несколько голосов.
Площадь разом всколыхнулась как волна и снова точно застыла.
– Верши, человече! – махнул рукой посадник «чудину».
– Постой! – вдруг остановил его Упадыш. – Дай помолиться.
Палач несколько отодвинулся, а Упадыш стал молиться на Софийский храм. Все глаза напряженно следили за ним. Никто не шевелился.
Кончив молиться, осужденный стал кланяться на все четыре стороны, глаза его снова, по-видимому, искали кого-то в толпе.
– Простите меня, окаянного, – надтреснутым голосом произнес он, низко кланяясь, так что густые рыжие волосы покрыли до половины его бледное лицо.
– Бог и святая Софья простят! – прошел ропот по толпе.
– За вас, братцы, умираю. Вам добра искал, не привел Бог… За молодчих, за сирот голову свою полагаю. Простите!
Какой-то смешанный говор прошел по толпе. Все заколыхалось, задвигалось… «Ах, Упадыш! Упадыш! Лучше б тебе не быть в утробе матерней, чем наречься предателем Новгорода!» – явственно прозвучал в толпе чей-то голос.
Осужденный встал на свое место, сложил на груди руки, нагнулся вперед и вытянул шею.
– Я готов – верши, – сам подсказал он палачу и закрыл глаза.
Палач поплевал себе на ладони, обхватил конец топорища и высоко занес топор над головою, словно собираясь рубить бревно.
Топор блеснул в воздухе и глухо ударился о толстую загорелую шею Упадыша, но и до половины не перерубил ее. Несчастный упал на колени. Кровь брызнула ручьем.
– Ох господи! Не осилил! – послышались голоса.
– Не перерубил! Вдругорядь… ах!
Палач снова ударил по тому же месту. Жертва людского безумия валялась уже на земле, в ужасных корчах, истекая кровью. А неумелый палач продолжал добивать ее, рубя как дрова, как-то растерянно хряская топором то по шее, то по голове…
– Ах, батюшки, жив еще… трепыхается…
– Ах, чудин, чудин! Не за свое дело взялся…
– В Москве бы сразу…
– Москва сему делу навычна… Москва на крови стоит…
– Там как пить бы дали…
– Точно… А то на! Вон еще все ручкой шевелит.
– А нога вон отмашкою дрыгнула… Страх какой!
– Сапоги-то, сапоги, братцы, новеньки… Жалость!
– Пропал чоловик ни за мидну мордку… Ах и боже!
– За нас, чу, пропал – за сирот… Спаси ево душеньку!
– Ах, Упадыш, Упадыш! Лучше бы тебе не быть в утробе матерней, – повторял голос, уже раздававшийся на площади… То был голос летописца новгородского, настоятеля Хутынского монастыря Нафанаила, который пришел в Новгород посетить свою больную внучку, Остромиру, и угодил на место казни.
С вечевой колокольни смотрел старый звонарь, и по сморщенному лицу его текли слезы. Это плакал единственный глаз доброго старика…
– Я твой ворог… Я, окаянный, погубил тебя, – шептал он.
Упадыш более не трепыхался. Он плавал в своей собственной крови, разметавши руки и ноги, точно в самом деле собирался уплыть. Да, далеко пришлось теперь плыть старому ушкуйнику…
Палач между тем обтер топор об рогожный мешок, разложил этот мешок на земле и стащил труп с кровяной лужи. Потом он стал усердно запихивать его в свой вместительный мешок. Вот какой саван пришлось надеть Упадышу! Изгой – изгоем и кончил… Сначала «чудин» впихнул в мешок голову казненного, потом втиснул туда его широкие плечи и стал натягивать рогожу на остальное туловище… Из мешка торчали ноги в сапогах, о которых сейчас пожалел один худой мужичонко-вечник… «Чудин» согнул колена мертвому, всунул ноги в мешок, завязал его и, взвалив с трудом на плечи, понес через толпу к Великому мосту.
– Прощай, сиротинушка! – шептал с колокольни вечевой звонарь, провожая своим единственным глазом изменника Великого Новгорода.
Толпа сопровождала печальное шествие. Со всех концов сбегались женщины и дети, не бывшие на вече и желавшие взглянуть, как будут топить Упадыша…
На мосту «чудин» положил свою тяжелую ношу на землю и привязал к ногам мертвеца огромный булыжник. Приподняв тело, он с трудом положил его на перила моста. Еще не застывшее, оно перевесилось на обе стороны…
– Прощай, Упадыш, кланяйся моей Ладоге, – сказал «чудин».
Еще мгновенье, и Упадыш грузно бултыхнул в Волхов.
В толпе послышался отчаянный, душу раздирающий женский крик… Все оглянулись: на земле лежала и колотилась о нее головою какая-то женщина, молодая и богато одетая…
– Матушки! Сестрицы! – взвыли бабы. – Да это никак Марфина-посадничихина сноха…
– Она и есть, кормилицы… Аграфена, Димитриева жена…
– Вдова, – скажи, матушка, а не жена… Была женой. О-о-хо-хо! А ноне сирота горькая!
– И то правда… Что же с нею? Али попритчилось?
– Да по муженьку, знамо, убивается… То-то – горькая!.. Не одна она…