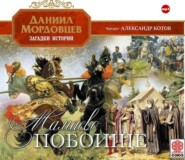По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава XV
И у тебя рука поднялась на Новгород?
С Шелонского поля почти никто не воротился в Новгород.
Вечевой звонарь рассказывал после, когда дошла до Новгорода весть о шелонском поражении и находили на дорогах и в поле, дальше города, ратников, валявшихся вместе с издохшими лошадьми, что в день шелонской битвы, к вечеру, он видел с колокольни много скачущих людей «аки изумленных», которые в безумии ужаса, по-видимому, не узнавали своего родного города и проскакивали мимо, чтобы умереть, не видав ни Новгорода, ни своих родных и близких…
Целую неделю пропадал потом «вечный ворон», с раннего утра улетая на Шелонь…
– Ишь, подлый, подлый! Раздобрел на новогороцком мясце, на хрестьянской плоти! – ворчал старик звонарь. – Глаза б мои не видали тебя, окаяннаго!
В городе не умолкали вопли и стенания. В каждой семье было кого оплакивать, и чем дальше, тем ужас положения всей земли становился очевиднее, зловещее. Днем, куда бы ни досягал глаз с городских стен, видно было, как по всему горизонту, и с запада, и с востока, с полудня и с полуночи, к небу подымались черные тучи дыма, которые все окутывали мрачною дымкой, как бывало в те несчастные года, когда, по выражению летописцев, Бог посылал на землю огонь, и от этого небесного огня горела вся земля – леса и болота.
По ночам огромное кольцо зарева, на десятки верст, со всех сторон – и с полуденной и с полуночной, с восточной и западной – охватывало Новгород, как бы огненным поясом опоясывая посады и пригороды несчастной столицы вольной земли. Это московские люди и татары, рассеявшись загонами по новгородской земле, жгли и пустошили ее.
Не такое то было время, чтобы щадить воюемую землю и ее население. Не было тогда ничего, что теперь лицемерные «законы» войны придумали для возможного укрытия от глупого и доверчивого человечества всех ужасов освященного законами человекоубийства. «Тогда было из простого просто» – не рисовались, не хитрили, не виляли хвостом перед теми, кого убивали или разоряли. Не было тогда ни «сестер милосердия», ни «красных крестов», ни «походных лазаретов», ни «санитаров», ни «перевязочных пунктов», ни «носилок» и «повозок для раненых», ни «военных врачей», ни «бараков», ни «искусственных ног и рук» – ничего такого, чем старается современное лицемерие замазать то, чего ничем замазать нельзя. Тогда не миндальничали с людьми, которых шли убивать или которых вели на убой и на убийство. Разоряй и пустоши страну, с которою воюешь или даже в которой воюешь, жги ее города и села, убивай, вырезывай ее население, кормись ее хлебом и ее скотом, ибо тогда не было ни «интендантств», ни «поставщиков на армию» – такова была война в то «откровенное» время…
И московские люди «откровенно» воевали новгородскую землю…
Что успевало бежать из разоряемых городов, сел, близких и далеких пригородов Господина Великого Новгорода, то бежало в Новгород, заполняя собой и оглашая воплями все его «концы», все улицы, площади, Детинец, Софийскую и торговую стороны; что не могло бежать – погибало или укрывалось по лесам и болотам, «по норам и язвинам, аки лисы, аки зверие, а Сын человеческий, не имевый где главу преклонити»…
А дымный и огненный пояс все более и более затягивался, пожарное кольцо все суживалось, приближаясь к самому Новгороду.
– Видишь, окаянный! – словно помешанный обращался вечевой звонарь к своим единственным собеседникам – к ворону и к вечевому колоколу. – Видишь, человекоядец! Все это за грехи, за наше немоление…
Вопли с каждым днем становились раздирательнее. Люди с отрезанными носами и губами, толкаясь по вечевой площади и по всем улицам и показывая народу свои полузажившие, обезображенные лица, кричали – да как еще страшно, гугнявою речью, приводившею всех в трепет, – горестно кричали о мщении…
– Без лиц люди… Господи! – бормотал звонарь, глядя с своей колокольни на этих «людей без лиц».
Слепой Тиша, встречаясь с кем-либо на улице или на площади, прежде всего лез ощупывать его лицо – цело ли де?
– Образ и подобие Божие урезали, окаянные! – качал он головою, если рука его ощупывала следы московского зверства.
Часто видели посадника, тоже как бы помешанного, который иногда разговаривал сам с собою и беспомощно разводил руками или хватался за свою седую голову… Казалось, что он потерял что-то и напрасно искал…
Иногда видели и несчастную Остромиру, которая ходила по берегу Волхова и тоже как будто искала чего-то потерянного.
– Чево ты ищешь, Остромирушка? – спрашивала ее мать.
– Христа ищу… Взяли Христа – и не знаю, где положили его, – отвечала несчастная. – Нету Христа – некому молиться… Ах, скоро ли радуница? Може, найду…
Ее уводили домой, служили молебны, кропили святою водой; но ничто не помогало. От креста она с боязнью отстранялась, лишь только чувствовала прикосновение к губам холодного серебра распятия…
– Ему нечем целовать Христа, нечем прикладываться, – испуганно шептала она.
Видя, что зарево пожаров все приближается, и ожидая, что московское войско не остановится на одном разорении земли, а приступит и к осаде Новгорода, посадник, собрав вече и объяснив возможность нападения москвичей на самый город, испросил у народа дозволение – жечь все ближайшие к городу посады и монастыри, чтобы тем лишить осаждающих пристанища на случай осенних непогод, а затем – и на случай суровой зимней непогоды.
Начались новые пожоги, новые ужасные картины: жители сожигаемых посадов и монастырей толпами шли в Новгород, чтоб укрыться, и шли с воплями, таща свое добро – «животики» кое-какие да скотину. Скотина ревела, точно ее вели на убой. За людьми и скотом летела в Новгород и птица – вороны, галки и воробьи, гонимые дымом пожаров.
Скоро и из Русы чернецы-рыбари Перынь-монастыря, ездившие Ильменем к устью Ловати за рыбным делом, привезли страшные вести, для выслушания которых вечевой колокол сзвонил все население нового злосчастного Карфагена на вече.
– Повествуем Господину Великому Новугороду, отцем и братии своей, печаль велию: в сию среду иулия месяца двадцать четвертого дня, на память преподобных мученик, князей Бориса и Глеба, в Русе, на площади, велением онаго Науходоносора московского усечены топором головы Димитрию сыну Исаакоу Борецкому, Василью Селезневу-Губе, Киприяну Арзубьеву да Иеремии Сухощеку, а остальных больших людей, человека до полуста, в оковах, аки скот бессловесный, погнали в Москву.
Марфа, стоявшая тут же недалеко от посадника, при вести той пошатнулась было, схватившись за сердце, но устояла, перекрестилась и подняла руки к небу.
– Бог даде, Бог и взя… Да будет Его святая воля! – громко сказала она.
Но у этой великой притворщицы было меньше сердца, чем воображения. Посадник заплакал, услышав эту весть; многие рыдали, глядя на мать, потерявшую сына; у всего веча, как у одного человека, вырвался из груди не то глубокий вздох, не то стон. Звонарь обхватил вечевой колокол руками, точно друга, и слезы из его одинокого глаза лились на холодную медь, как на грудь близкого, дорогого существа. А она стояла как кремень, бледная и сумрачная, а под длинными поседевшими волосами и где-то в сдавленном сердце колотились не то мысли, не то слова: «Венца сподобился Митюшка, венца нетленнаго, мученическаго… А мне, окаянной, венец княженецкой на мою седую косу не выпадет ли?.. О, князь Михайло, князь Михайло! Долго же не идешь ты ко мне на выручку с твоею Литвою»…
– Баба! Когда ж воротится батя и привезет мне большой московский пряник? – встретил ее Исачко, когда она воротилась домой.
Тут и ее жестокое, но все же материнское сердце не выдержало. Она обхватила руками голову внучка и зарыдала. Ей разом, со всею ужасающею ясностью, представилась вся невозвратимость того, что совершилось: никогда, никогда она его больше не увидит, никогда не доскажет ему того, что между ними в течение жизни осталось недосказанным, невыясненным, взаимно непонятым… Все, что он мог думать о ней, все, что думал и как, – все это он взял с собой, и она никогда этого не узнает, как никогда не узнает он многого в ее жизни, что должен был бы знать… Он не увидит ее, не поймет ее… Все кончено и навсегда…
– О мой птенчик! О мой сиротинка! – голосила она, захлебываясь слезами и покрывая поцелуями голову внучка.
Ребенок сначала испуганно молчал, потом сам заплакал.
Вошла жена Димитрия Аграфена. Красивое, молодое лицо ее, как и ясные, голубые, задумчивые глаза выражали что-то глубоко сдержанное, самозамкнутое. Она не то с испугом, не то с недоверием взглянула на плачущую…
– Димитрий? – испуганно, едва слышно спросила молодая женщина.
Марфа подняла на нее свои заплаканные глаза, с изумлением, точно не узнавая ее.
– Матушка! – повторила Груша.
– Вдова… вдова ты стала… Теперь и в черницы вольна…
Молодая вдова ничего не отвечала. Она только перекрестилась и вышла.
Но вот и ночь настала. Зарево догоравших вокруг Новгорода посадов умалялось то там, то здесь. В иных местах, видимо, тлели догоравшие бревна, в других – пламя, найдя новую пищу, усиливалось, набрасывая на новгородские церкви и на крепостные стены зловещий багровый цвет. Иногда оно освещает и стоящую на стене, у западной башни, фигуру и лицо женщины.
То была Марфа. Она не могла спать в эту томительную для нее ночь и задолго до рассвета, после вторых петухов, пошла к Детинцу и ей одной знакомым потайным ходом вышла на городскую стену. Она с часу на час ожидала вестей от посла, отправленного Новгородом к королю Казимиру. Он должен был воротиться через западные ворота.
Зарево далеко освещает за городом дорогу, ведущую в Ливонию, но на ней не видно никаких признаков движения. Гонец, видимо, запоздал. Она ждет, долго ждет…
В зареве пожара рисуется ей лицо обезглавленного сына. Вон и длинные, вьющиеся волосы… Нет, это клубы дыма и – огненная кровь на шее… Все это огонь и дым…
А вон и лицо Олельковича… Нет, все это видения, мечтания помутившегося рассудка.
И белокурый, льняноволосый «бес-прелестник», Иванушка-боярин, встает в этих видениях… Она любила его, да – его одного только любила она, а он – обманул ее. И вон та льняноволосая чаровница на берегу Волхова, у старых каменоломен… То его лукавая душа, то ее грызущая душу совесть…
А гонца все нет. Уж и восток алеет…
И с вечевой колокольни кто-то смотрит на зарево. Это старому звонарю тоже не спится, и его единственный глаз светится, обозревая догорающие посады. Ворон спит в углу на перекладине, но и на его гладкие, блестящие перья падает свет от пожара. И колокол спит, хотя один бок его, обращенный к пожару, играет точно живой… Но звонарю не видна за западной башней фигура Марфы.
Кто же это крадется по крепостной стене? Он то и дело останавливается… Останавливается он около пушек, расставленных на стене. Что же он с ними делает? Вот подходит ближе, нагибается к жерлу пушки… Слышится какой-то глухой стук, точно забивают что в пушку… Кому бы это быть?
Звонарь тихонько спускается с колокольни и идет к воротной караулке. Сторожа спят.