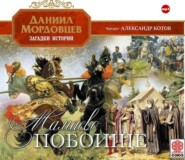По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бежало все – и конные, и потерявшие коней, вооруженные и безоружные, здоровые и раненые, бежали куда глаза глядят, лишь бы уйти от смерти, от этих удушающих арканов, от копий и стрел, от топоров и сулиц… Безумное, бешеное бегство… Новгородцы слышали только крик смерти, и им, обезумевшим от страха, казалось, что это с неба гремел страшный московский ясак – «Москва! Москва!» – и ужасное алалаканье – «Алла! Алла!»
«Господь ослепи их! – восклицает московский летописец. – Поглощена бысть мудрость их»… Несчастные бежали в леса, уходили и вязли в болотах, тонули в речках; раненые, истекая кровью, заползали в кусты, в чащи и там, теряя последние капли крови, издыхали, как отравленные собаки; иных засасывала болотная тина… Те летели на конях, пока не падали кони и не издыхали вместе с придавленными и обессилевшими всадниками.
Двенадцать тысяч новгородских тел покрыли шелонское поле, леса и болота на десятки верст кругом. Более полутора тысяч взяты в полон, в том числе и много воевод с боярами. Взяты были и знамена новгородские, и договорная грамота с Казимиром, и сам писарь, сочинявший ее в вечевой избе… А он еще так тщательно, с такими киноварными завитушками писал в назидание будущим родам новгородским… Нет, не судьба!..
Все покончили москвичи… К вечеру недостало кровавого вина – упились новгородцы и полегли спать навеки! Спите, последние вольные люди несчастной русской земли.
А Москва и татары сошлись среди полегших сынов новгородской воли, радостно протрубили победу и тут же стали прикладываться к образам, изображенным на отбитых у новгородцев знаменах… Радовались москвичи и татары – было чему радоваться!..
По другую сторону Шелони стоял Упадыш и видел все это… По бледным щекам его текли слезы.
«О, Упадыш, Упадыш! – отдавались в ушах его слова ночных видений. – Лучше бы тебе не родиться на свет Божий!..»
Глава XIV
Казни в Русе
– Мама, а мама!
– Чево тебе, дочечка?
– Скоро уйдут московски люди?
– Не ведаю, родненькая, може, скоро, може, не скоро.
– Я исть хочу, мама.
– Знаю, дитятко. О-ох!.. Вот морошки малость осталось – пососи, дитятко, полегшае.
– Я хлеба хочу… молочка бы… яичка…
– Ниту, родная, ни хлебушка, ни молочка… Сама знаешь – хлебушко московские люди на корню потравили, а коровушку соби взяли… И курочек побрали.
– А за что они наш город пожгли?
– Так… Богу так угодно было! За то, что мы новгородской земли, а не московской.
– И тятьку за это убили?
– За то же, дитятко, за то. О-ох!
Так, в виду разоренной и сожженной московскими ратными людьми Русы, разговаривали, прячась в соседнем лесу, остатки этого старинного новгородского пригорода. Москва опустошала, жгла, разоряла города и селения новгородской земли, вытравливала и вытаптывала на корню их посевы, забирала из их закромов «жито и всякое болого», а закрома и избы жгла, скот и птицу угоняла и съедала, население выбивала и уводила в полон. Так поступила она и с Русой, старинным новгородским пригородом.
Что могло уйти от этого погрома – ушло и попряталось по лесам и болотам; что не успело уйти – погибло…
Из числа ушедших были и эти две собеседницы – мать и дочь-девочка. Они давно уже скитались в лесу вблизи своего родного города, превращенного в груды пепла и мусора, питались кореньями, древесной корой, морошкою и другими, еще не вполне созревшими лесными ягодами, а теперь прибрели поближе к своему горькому пепелищу и украдкой смотрели из лесу на торчащие из земли обгорелые столбы от заборов и ворот, на уцелевшие трубы от сожженных домов, на кучи золы и уголья, на колокольни и церкви родного города, пожженные своими же, родными и варварами, тоже называвшимися христианами…
Смотрели они и на невиданные шатры, белевшие и пестревшие всеми цветами на месте разрушенного города и на примыкавшей к нему луговине. Около шатров сновали люди, блестело оружие, шлемы, знамена, паслись лошади и награбленный скот. По новгородской, по псковской и московской дорогам, шедшим из Русы, постоянно скакали какие-то всадники в шеломах, двигались чем-то нагруженные возы и колымаги, раздавались возгласы.
– А чья та, мама, больша палатка?
– Кака палатка, милая?
– Пестра – с золотом, точно церква.
– Не знаю, дитятко… Може, старшово ихнево, самово князя.
– А где мы зимой будем жить, мама?
– Не вим, родная… Може, до зимы помрем… к отцу пойдем…
Девочка тихо заплакала. Бескровное, изможденное лицо матери выражало глубокую скорбь.
Нынешний день, 24 июля, через десять дней после шелонской битвы, в московском стане, в Русе, замечалось особенное движение. Накануне прибыл в Русу сам великий князь с огромным обозом и боярами, а сегодня, рано утром, Холмский с частью своего войска (остальное продолжало разорять новгородские земли вплоть до Наровы, до ливонского рубежа) прибыл поклониться великому князю знатными новгородскими полоняниками и всем добром, добытым на берегах Шелони.
– Видишь, мама, – вон там каких-то людей ведут к большой палатке.
– Вижу, милая, должно, полоняников.
– Наших, мама?
– Наших давно увели, а коих тутай побили насмерть, вот как и отца… А это, должно, новогороцки полоняники.
Да, это было действительно так.
На площади разрушенного москвичами города разбита была великокняжеская палатка. Она была очень велика, так что казалась чем-то вроде собора, за которым стояли рядами, полукругом, другие меньшие палатки. Она имела как бы два яруса, из которых верхний кончался небольшим купольцем с золоченым на нем яблоком и осьмиконечным крестом. У входа в палатку стояли алебардщики.
Но великий князь был не в палатке, а сидел на особом возвышении, в резном золоченом кресле, под балдахином, стоявшим перед палаткою, лицом к площади и уцелевшей от пожара церкви. С балдахина спускались золотые кисти, перехватывавшие богатую парчовую драпировку. Эта драпировка, защищая великого князя от солнца, которое в этот день особенно ярко светило, бросала тень на хмурое, матовое лицо Ивана Васильевича III, непреклонного «собирателя русской земли», и выдавала особенный, холодный блеск серых глаз, сурово смотревших из-под меховой, широкой, с острым верхом татарковатой шапки. По бокам его стояли отроки во всем белом и держали в руках секиры с длинными рукоятками. Бояре полукругом стояли около балдахина, а несколько впереди их, сбоку, у ступенек, стоял знаменитый грамотей своего века, тогдашний ученый и академик, архиепископский дьяк Степанко Бородатый, отменным манером «умевший воротити русскими летописцы» – одним словом, наиученейший воротила и историк, знавший все провинности Господина Великого Новгорода не хуже современного историка сего злосчастного града, почтеннейшего А. И. Никитского[71 - Никитский Александр Иванович (1842–1886) – историк, профессор Варшавского университета. Главные труды: «Очерки внутренней истории церкви в Великом Новгороде» и «История экономического быта Великого Новгорода».]. У ног Бородатого (борода у Степана была действительно внушительная) – у ног этого бородатого ученого лежал кожаный мешок, наполненный летописями.
Странно было видеть это сборище молчаливых, угрюмых людей среди жалких пепелищ сожженного города. Зачем они сюда пришли? Чего им еще нужно после того, что они уже сделали?
На сумрачном лице деда Грозного и в холодных глазах, задумчиво глядевших на свежие следы пожарища, казалось, написано было: «Посетил Господь»… Ему, вероятно, искренно думалось, что это действительно Господь посетил, а не человеческое безумие…
Кое-где между грудами пепла перелетали вороны и, каркая, ссорились между собою из-за не совсем обклеванных костей.
Где-то впереди протрубили рога. Глаза великого князя глянули на церковь, потом опустились ниже и остановились на чем-то с тем же холодным вниманием… Из-за церкви что-то двигалось сплошною массою. Впереди и по бокам виднелись копья и еловцы шлемов. В середине – что-то бесформенное, какие-то волосатые головы, ничем не прикрытые, несмотря на палившее их солнце…
Ближе и ближе – видно, наконец, что это ведут связанных людей. Много их, этих связанных, очень много, по четверо в ряду. Руки связаны назади, на ногах кандалы. Это не простые люди – на них остатки богатого одеяния; но все оно исполосовано, выпачкано грязью и засохшею кровью.
Откуда-то выбежала худая-худая – одни кости да кожа – желтая собака, вероятно искавшая свое сгоревшее жилье или без вести пропавших хозяев, остановилась как раз против возвышения под балдахином и, подняв к небу сухую, острую морду, жалобно завыла, как бы плачась на кого-то… Бояре бросились отгонять ее: «Цыц-цыц!.. Улю-лю, окаянная!..»
А связанные люди уже совсем близко – видны бледные, измученные лица, опущенные в землю глаза.
От передних латников отделился князь Холмский и, не доходя несколько шагов до балдахина, поклонился в землю.
– Государю, великому князю Иван Васильевичу всеа Русии, полоном новогороцким кланяюсь, – проговорил он, не вставая с колен.
– Похваляю тебя, князь Данило, за твою службу… Встань, – громко и отчетливо проговорил Иван Васильевич.