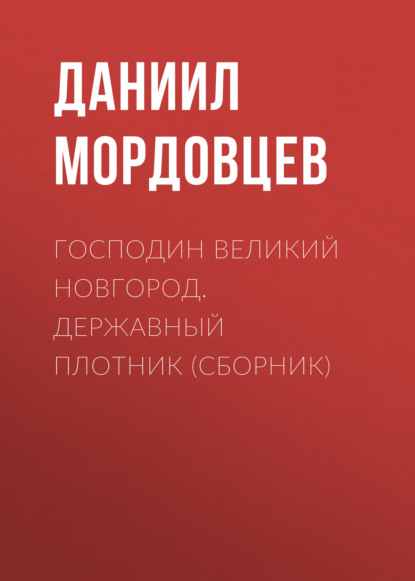По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это были новгородцы, отпущенные москвичами из плена после дьвольской операции… Они добрались-таки до родного, вольного города, но не все, далеко не все…
Остромира, безмолвная и бледная, дрожа как осиновый лист и держась за мать, искала кого-то растерянными глазами в этой толпе страшных пришельцев. Но как узнать того, кого она искала?.. Где его лицо, где его ласковая, игривая улыбка?
Но она узнала его – не его, нет, его не было, – она узнала его глаза, одни глаза… А под глазами не было его лица – не было его… Это не он – нет, и глаза не его… Это не он – это чужой кто-то…
И он узнал ее. Его глаза увидели ее и сказали это – глаза сказали – страшно говорят глаза без лица! Страшные глаза, ужасные… Ох как они говорят, как смотрят на нее страшно…
И зубы белые под черной пропастью, где прежде был нос, зубы осклабились на нее.
«Не Павша… не он… Страшный, ох! Страшный!..»
Она подняла глаза к небу, только бы не глядеть на него, не видеть страшных глаз и белых, ничем не покрытых зубов.
Она увидела вечевую колокольню… колокольня шатается… Кто-то рвет там на себе волосы… Каркает и кружится ворон… кружится колокольня, шатается, небо кружится и шатается… И колокольня, и небо, и солнце – упали…
Глава XII
Переветница
Прошло около трех недель после битвы у Коростыня и после того, как отважнейшие из новгородцев, в пылу этой битвы врезавшись в ряды москвичей, частью пали там же на берегу Ильменя под ударами московских мечей и сулиц, частью попались в плен и воротились в Новгород злодейски обезображенные.
Над Ильменем не то ночь, не то прозрачные сумерки. Нет, это ночь. Где-то петухи поют…
– Третьи алекторы поют – утро скоро.
– Каки, баушка, алехторы?
– Кочета… по церковному алекторы.
– Я, баушка, питушка слышу.
– Ну, ин питушок… А ты-ко греби гуще.
– И то, баунька, густо гребу.
– Догоняй ночь-ту, ишь уходит… Третьи алекторы… Должно, в Коростыне… Догоняй, догоняй ноченьку-ту.
– Ее, баунька, теперь не догнать. Скорее день нагоним, солнушко.
– Ну-ну, греби, близко берег.
– Точно… берег… Ух! Страшно. Мы с Гориславонькой видели их живыми еще.
Лодка пристала к берегу. Из нее вышла старуха, стала глядеть…
Желтело и белело вокруг… Кое-где при слабом мерцании зари – шевелилось… И слышался хруст… Это лисицы догрызали новгородские кости.
– Го-го-го-го! Ту-ту-ту-ту! – глухо прокричала старуха.
Тени около костей бросились врассыпную, не произведя ни малейшего шуму – точно в самом деле это были тени, а не живые существа…
– Фу-фу-фу-фу! Новгородским духом завоняло.
Лодка, в которой оставался гребец, отплыла от берега.
– Куда ты, Петра?
– Страшно там, баушка, и дышать трудно. Я, баунька, на воде побуду.
– Обглодала новогородски косточки Марфа.
Из-за пригорка выросли две человеческие фигуры с сулицами и рогатинами.
– Кто идет?
– Кто идет – тот и идет.
– Кто ты? Сказывай.
– Я – сказываю!
– Имя сказывай… Кто костям покою не дает?
– Лиса, да ворон, да серый волк.
– А ты сама кто? Не то рогатиной… Кто ты?
– Я – баба-яга, костяна нога.
– Чур! Чур! Чур! С нами хрест святой… – С рогатинами и сулицами – попятились…
– Не чурайтесь, добры молодцы. Третьи петухи пропели…
Пришедшие остановились в нерешительности. В самом деле: после третьих петухов нечистой силы не должно быть.
– Кто ж ты будешь?
– Про то я скажу вашему старшому.
– А кто наш старшой?..
– Князь Данило, княж Димитриев сын, Холмской. Ведите меня к нему.
– За коим делом?
– Это дело не ваше и не мое… Вы сторожа московская?
– Сторожа… А ты сама откуду?
Остромира, безмолвная и бледная, дрожа как осиновый лист и держась за мать, искала кого-то растерянными глазами в этой толпе страшных пришельцев. Но как узнать того, кого она искала?.. Где его лицо, где его ласковая, игривая улыбка?
Но она узнала его – не его, нет, его не было, – она узнала его глаза, одни глаза… А под глазами не было его лица – не было его… Это не он – нет, и глаза не его… Это не он – это чужой кто-то…
И он узнал ее. Его глаза увидели ее и сказали это – глаза сказали – страшно говорят глаза без лица! Страшные глаза, ужасные… Ох как они говорят, как смотрят на нее страшно…
И зубы белые под черной пропастью, где прежде был нос, зубы осклабились на нее.
«Не Павша… не он… Страшный, ох! Страшный!..»
Она подняла глаза к небу, только бы не глядеть на него, не видеть страшных глаз и белых, ничем не покрытых зубов.
Она увидела вечевую колокольню… колокольня шатается… Кто-то рвет там на себе волосы… Каркает и кружится ворон… кружится колокольня, шатается, небо кружится и шатается… И колокольня, и небо, и солнце – упали…
Глава XII
Переветница
Прошло около трех недель после битвы у Коростыня и после того, как отважнейшие из новгородцев, в пылу этой битвы врезавшись в ряды москвичей, частью пали там же на берегу Ильменя под ударами московских мечей и сулиц, частью попались в плен и воротились в Новгород злодейски обезображенные.
Над Ильменем не то ночь, не то прозрачные сумерки. Нет, это ночь. Где-то петухи поют…
– Третьи алекторы поют – утро скоро.
– Каки, баушка, алехторы?
– Кочета… по церковному алекторы.
– Я, баушка, питушка слышу.
– Ну, ин питушок… А ты-ко греби гуще.
– И то, баунька, густо гребу.
– Догоняй ночь-ту, ишь уходит… Третьи алекторы… Должно, в Коростыне… Догоняй, догоняй ноченьку-ту.
– Ее, баунька, теперь не догнать. Скорее день нагоним, солнушко.
– Ну-ну, греби, близко берег.
– Точно… берег… Ух! Страшно. Мы с Гориславонькой видели их живыми еще.
Лодка пристала к берегу. Из нее вышла старуха, стала глядеть…
Желтело и белело вокруг… Кое-где при слабом мерцании зари – шевелилось… И слышался хруст… Это лисицы догрызали новгородские кости.
– Го-го-го-го! Ту-ту-ту-ту! – глухо прокричала старуха.
Тени около костей бросились врассыпную, не произведя ни малейшего шуму – точно в самом деле это были тени, а не живые существа…
– Фу-фу-фу-фу! Новгородским духом завоняло.
Лодка, в которой оставался гребец, отплыла от берега.
– Куда ты, Петра?
– Страшно там, баушка, и дышать трудно. Я, баунька, на воде побуду.
– Обглодала новогородски косточки Марфа.
Из-за пригорка выросли две человеческие фигуры с сулицами и рогатинами.
– Кто идет?
– Кто идет – тот и идет.
– Кто ты? Сказывай.
– Я – сказываю!
– Имя сказывай… Кто костям покою не дает?
– Лиса, да ворон, да серый волк.
– А ты сама кто? Не то рогатиной… Кто ты?
– Я – баба-яга, костяна нога.
– Чур! Чур! Чур! С нами хрест святой… – С рогатинами и сулицами – попятились…
– Не чурайтесь, добры молодцы. Третьи петухи пропели…
Пришедшие остановились в нерешительности. В самом деле: после третьих петухов нечистой силы не должно быть.
– Кто ж ты будешь?
– Про то я скажу вашему старшому.
– А кто наш старшой?..
– Князь Данило, княж Димитриев сын, Холмской. Ведите меня к нему.
– За коим делом?
– Это дело не ваше и не мое… Вы сторожа московская?
– Сторожа… А ты сама откуду?