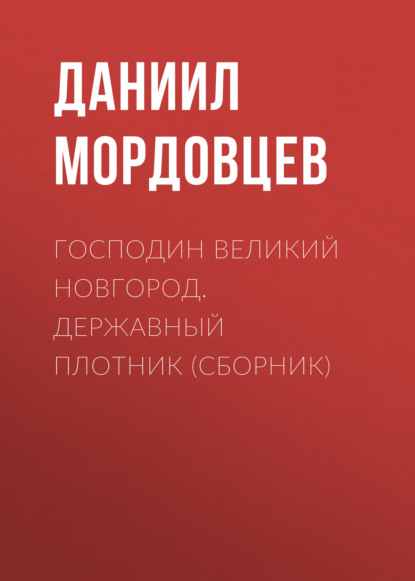По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Холмский встал. Пленники стояли с опущенными в землю глазами.
– Подведи начальных людей, – приказал Иван Васильевич, ткнув массивным жезлом по направлению к передним связанным.
– Приблизьтесь к государю, великому князю всеа Русии, новогороцкии воеводы, – повторил приказ Холмский.
Стоявшие впереди всех четыре пленника приблизились.
– Кто сей? – ткнул жезлом Иван Васильевич, указывая на бледное лицо с опущенными на глаза волосами.
– Димитрий Борецково, сын Марфы-посадницы, – был ответ Холмского.
– А!.. Марфин сын… помню, – каким-то странным, горловым голосом промолвил великий князь.
Димитрий поднял свои большие черные материнские глаза из-под нависших на лоб волос. Глаза эти встретились с другими, серыми, холодными глазами и несколько секунд глядели на них не отрываясь… Кто кого переглядит?.. Кто? На лице великого князя дрогнули мускулы у углов губ, у глаз… А те глаза все глядят… Недоброе шевельнули в сердце великого князя эти молодые, покойные, молча укоряющие глаза.
– Марфин сын… Точно – весь в нее, – как бы про себя проговорил великий князь. – А как ты, Димитрий, умыслил измену на нас, великого князя, государя и отчича и дедича Великого Новгорода?
– Я тебе не изменял, – спокойно отвечал Димитрий, по-прежнему глядя в глаза вопрошающему.
– Ты, Димитрий, пошел на нас, своего государя, войною и крестное целованье нам, государю своему, сломал еси – и то тебе вина.
– Ты Великому Новгороду не государь, и креста тебе я не целовал… Господин Великий Новгород сам себе и господин и государь.
При этом ответе глаза великого князя точно потемнели. Правая рука вместе с жезлом дрогнула… Бояре как-то попятились назад, точно балдахин на них падал…
– Прибрать ево, – едва слышно проговорили бледные губы.
Холмский повернулся к латникам. Те взяли Димитрия под руки и отвели в сторону.
– Сей кто? – направился жезл на другого связанного.
– Селезнев-Губа, Василей.
Губа выступил вперед. Глаза его также остановились на глазах великого князя.
– И ты, Василей?.. Я знал тебя, – как бы с укоризной сказал Иван Васильевич.
Губа молчал. Полная грудь его высоко подымалась.
– Почто ты, Василей, вступился в наши старины? – допрашивал великий князь.
– Не мы, Господин Великий Новгород, вступил в твои старины, а ты нашу старину и волю новгородскую потоптать хочешь… Али мы твои городы жгли и пустошили, как ты наши городы впусте полагаешь? Кто за это даст ответ Богу?
И Селезнев, говоря это, обвел глазами окружающие развалины. Невольно и глаза великого князя последовали за его глазами.
– Кто это сделал?
– То сделали вы, отступив света благочестия.
– Али ты в нашу душу лазил? Благочестие!.. Это ли благочестие – кровь лить хрестьанскую!
– Замолчи, смерд! – крикнул великий князь, стукнув жезлом о помост.
Холмский подскочил к дерзкому, чтобы взять его.
– Прочь, холоп! – осадил его Селезнев. – Топору нагну голову свою, а не тебе, холопу!
– Взять его!.. Голову долой! – раздалось с возвышения.
– «Голову долой!..» То-то наши головы поперек твоей дороги стали, улусник!
Большой мастер был сдерживаться и притворяться он, дед будущего Ивана Грозного, но тут не выдержал – швырнул в дерзкого своим массивным жезлом… Жезл угодил Губе прямо в голову…
– Собака!.. Отдать псам ево мерзкий, хульный язык!
Латники бросились на Селезнева и увели его подальше. Холмский почтительно подал жезл разгневанному владыке.
– Кто там еще? – более покойным голосом спросил Иван Васильевич.
– Арзубьев Киприян, государь.
– А! Арзубьев… Все – латынцы.
Арзубьев молчал, но видно было, что это стоило ему большого труда.
– А сей кто?
– Сухощек Еремей, чашник владычний.
– И чашник приложился к латынству… до чего дошло.
– К латынству мы не прилагались, – тихо отвечал Сухощек.
Великий князь глянул на Бородатого, который смирно стоял около своего мешка с летописями и беззвучно шевелил губами, как бы читая молитву.
– Подай, Степан, грамоту, – пояснил великий князь.
– Якову, государь?
– Каземирову.
Бородатый порылся в своем мешке, и, достав оттуда свиток, с поклоном подал великому князю. Тот развернул его.
– Это что? – показал он грамоту Сухощеку.
– Не вижу, – отвечал последний.
– Князь Данило, покажь ему грамоту, – обратился великий князь к Холмскому.