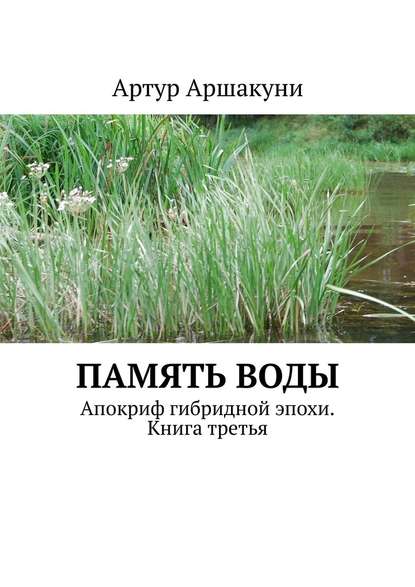По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга третья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
общим корнем – сухим, как уголья
Довольно!
в костре, пониманием,
что, изо всех сил стремясь уйти от одного, он никогда не достигнет второго.
Плевок в воду. Вода. Чего только в ней нет. Грязь. Грех. Она смывает грех? Ха-мабтил смывает грех. Ха-мабтил смывает грех водой. Все грехи – в воду. Все грехи? Всех людей?
Он склонился к воде, черпнул воды ковшиком ладони и зачарованно смотрел, как она тонкой прозрачной струйкой торопится обратно.
Как же она не сорвется в крик? Не вспухнет гнойной раной? Не полыхнет костром боли? Не взорвется взрывом смрадного жара?
Ха-мабтил?
Пора.
Ииссах вытер ладонь об одежду и, вставая от воды, по привычке кинул стремительный взгляд через плечо.
Так и есть.
Тоже голь перекатная. Накидка – одно название.
Ииссах досадливо тряхнул головой и пошел в ту сторону, куда пошли самаритянки.
Есть ли в этой несчастной стране люди? Просто – люди, а не богачи и нищие?
Он подумал мимоходом, продолжая лениво тянуть нить мысли о богачах и нищих, что ему как-то не по себе. Какое-то беспокойство. Или непонятность – там, где быть ее не должно. Мелочь, с мушиную меру, но не нравилась она ему все больше. Потому что в нем никогда не было непонятности или беспокойства, сколько он себя помнил, – холодная ясность лезвия ножа. И он смотал мысль о богачах и бедняках и припрятал на потом, как недоеденный сыр, и ухватился за эту мелочь обеими руками, внимательно рассматривая со всех сторон.
Горлица? Нет. Каменное чрево. Нет, нет. Самаритянки. Самаритянки? Самаритянки – все грехи в воду – Ха-мабтил – нет.
И даже не святые слова
«Страх Господень чист»?
в устах тройной скверны, ибо это
были уста женщины, уста самаритянки и уста нищей,
Нет.
не являлись причиной.
Берег полого наклонился и изогнулся дугой, вбирая в себя кусты лещины, зеленоватые макушки камней, выступающие из темной воды, и неторопливый, почти незаметный глазу, томный ток реки, берущей здесь не удалью и не размахом, а мирной сытостью вола в стойле рачительного хозяина.
– …Огнем неугасимым!
Ну и голос. Мурашки по коже.
Голод?
И люди – на противоположном берегу. Их немного – десятка два, три. Больше – было бы торжище, меньше – шайка злоумышленников. Впрочем, и единения между ними не было, ибо накидки самарян и сирийцев пестрели поодаль от белых и черных одежд иудеев. Стояли и стояли. Было и несколько пуришим, даже ради прихода сюда не снявших наперсников. И тоже – стояли и стояли. Белела одинокая накидка темнокожего египтянина. Торчал посох пастуха. Крутились мальчишки. Бегала от ноги к ноге приблудная собака, осторожно принюхиваясь. Тут же, неподалеку, строго струились складки хламид нескольких эллинов, пришедших сюда из любопытства, для всех других праздного
Нет.
и лишь для них одних сугубо насущного, являющегося отцом премудрости.
Они все, оторопев, слушали человека, стоявшего по колени в воде. Он говорил им и не им – небу, земле, воде? – воде, которую принимал на ладони и подносил к лицу, всматриваясь – в тысячный раз? – устало и строго, и снова возвращал реке.
Ха-мабтил.
– Сотворите же
Это он.
Ииссах встал, остановленный хриплым, но зычным голосом и догадкой о мелкой непонятности в себе.
плод, достойный покаяния[2 - Здесь и далее – Мф., 3, 7—10.]!
Чужак. Рыжий. Нет.
Светлые волосы.
Он облегченно вздохнул, довольный тем, что даже в такой мелочи остался верен себе и нашел причину.
Я крещу вас в воде в покаяние,
В толпе произошло движение. Ха-мабтил поднял глаза от мокрых ладоней своих, бережно их отряхивая,
но Идущий за мною сильнее меня.
и оглянулся.
Светловолосый незнакомец поравнялся с Ииссахом. Ииссах увидел краем глаза воздушное мелькание складок видавшей виды накидки; невольное
Я первый,
чувство ревности
а не ты, пришлый.
кольнуло его, и в воду они шагнули вместе. Он прибавил шагу, оттесняя чужака, с мстительной радостью отмечая, что тот не ропщет, согласно пристроившись за его плечом.
Так они шли, друг за другом,
И тогда ликование захлестнуло его – перед новым, неизведанным еще им действом,
невольно повторяя движения,
и он присвистнул неслышно и озорно, по-мальчишески, и еще, уже требовательно,
Довольно!
в костре, пониманием,
что, изо всех сил стремясь уйти от одного, он никогда не достигнет второго.
Плевок в воду. Вода. Чего только в ней нет. Грязь. Грех. Она смывает грех? Ха-мабтил смывает грех. Ха-мабтил смывает грех водой. Все грехи – в воду. Все грехи? Всех людей?
Он склонился к воде, черпнул воды ковшиком ладони и зачарованно смотрел, как она тонкой прозрачной струйкой торопится обратно.
Как же она не сорвется в крик? Не вспухнет гнойной раной? Не полыхнет костром боли? Не взорвется взрывом смрадного жара?
Ха-мабтил?
Пора.
Ииссах вытер ладонь об одежду и, вставая от воды, по привычке кинул стремительный взгляд через плечо.
Так и есть.
Тоже голь перекатная. Накидка – одно название.
Ииссах досадливо тряхнул головой и пошел в ту сторону, куда пошли самаритянки.
Есть ли в этой несчастной стране люди? Просто – люди, а не богачи и нищие?
Он подумал мимоходом, продолжая лениво тянуть нить мысли о богачах и нищих, что ему как-то не по себе. Какое-то беспокойство. Или непонятность – там, где быть ее не должно. Мелочь, с мушиную меру, но не нравилась она ему все больше. Потому что в нем никогда не было непонятности или беспокойства, сколько он себя помнил, – холодная ясность лезвия ножа. И он смотал мысль о богачах и бедняках и припрятал на потом, как недоеденный сыр, и ухватился за эту мелочь обеими руками, внимательно рассматривая со всех сторон.
Горлица? Нет. Каменное чрево. Нет, нет. Самаритянки. Самаритянки? Самаритянки – все грехи в воду – Ха-мабтил – нет.
И даже не святые слова
«Страх Господень чист»?
в устах тройной скверны, ибо это
были уста женщины, уста самаритянки и уста нищей,
Нет.
не являлись причиной.
Берег полого наклонился и изогнулся дугой, вбирая в себя кусты лещины, зеленоватые макушки камней, выступающие из темной воды, и неторопливый, почти незаметный глазу, томный ток реки, берущей здесь не удалью и не размахом, а мирной сытостью вола в стойле рачительного хозяина.
– …Огнем неугасимым!
Ну и голос. Мурашки по коже.
Голод?
И люди – на противоположном берегу. Их немного – десятка два, три. Больше – было бы торжище, меньше – шайка злоумышленников. Впрочем, и единения между ними не было, ибо накидки самарян и сирийцев пестрели поодаль от белых и черных одежд иудеев. Стояли и стояли. Было и несколько пуришим, даже ради прихода сюда не снявших наперсников. И тоже – стояли и стояли. Белела одинокая накидка темнокожего египтянина. Торчал посох пастуха. Крутились мальчишки. Бегала от ноги к ноге приблудная собака, осторожно принюхиваясь. Тут же, неподалеку, строго струились складки хламид нескольких эллинов, пришедших сюда из любопытства, для всех других праздного
Нет.
и лишь для них одних сугубо насущного, являющегося отцом премудрости.
Они все, оторопев, слушали человека, стоявшего по колени в воде. Он говорил им и не им – небу, земле, воде? – воде, которую принимал на ладони и подносил к лицу, всматриваясь – в тысячный раз? – устало и строго, и снова возвращал реке.
Ха-мабтил.
– Сотворите же
Это он.
Ииссах встал, остановленный хриплым, но зычным голосом и догадкой о мелкой непонятности в себе.
плод, достойный покаяния[2 - Здесь и далее – Мф., 3, 7—10.]!
Чужак. Рыжий. Нет.
Светлые волосы.
Он облегченно вздохнул, довольный тем, что даже в такой мелочи остался верен себе и нашел причину.
Я крещу вас в воде в покаяние,
В толпе произошло движение. Ха-мабтил поднял глаза от мокрых ладоней своих, бережно их отряхивая,
но Идущий за мною сильнее меня.
и оглянулся.
Светловолосый незнакомец поравнялся с Ииссахом. Ииссах увидел краем глаза воздушное мелькание складок видавшей виды накидки; невольное
Я первый,
чувство ревности
а не ты, пришлый.
кольнуло его, и в воду они шагнули вместе. Он прибавил шагу, оттесняя чужака, с мстительной радостью отмечая, что тот не ропщет, согласно пристроившись за его плечом.
Так они шли, друг за другом,
И тогда ликование захлестнуло его – перед новым, неизведанным еще им действом,
невольно повторяя движения,
и он присвистнул неслышно и озорно, по-мальчишески, и еще, уже требовательно,