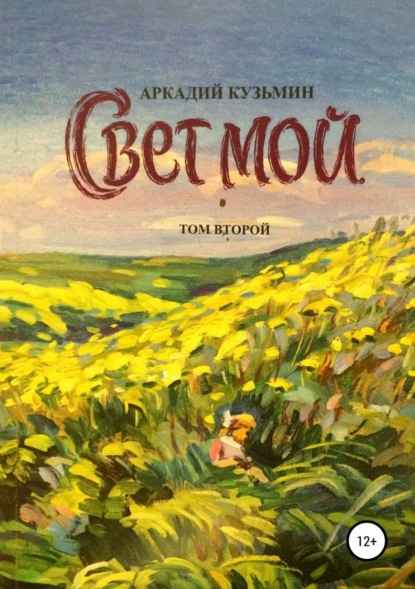По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот пришиваем до конца встык… Воротник будет вшивной. Сейчас посмотрим, как будет… Вера, у нас халат будет длинный. Сейчас кажу, на сколько он прибавится; пять сантиметров сюда, пять туда добавятся.
– Ага.
– Вот семьдесят пять… Видишь: какой?
– Это нормально.
– Если не будет отделки…
– Ну, с отделкой было бы лучше. Подождем тогда.
– Итак: одна, вторая, третья, четвертая… А это будет карман.
– Ну и все.
– Если поднажмешь… Зачем воротник? Надо рюшечку сделать… Чуть-чуть закруглить… Ура: получается! Что и требовалось доказать…
– Ну, все размечено. Давай и сделаем.
– Будем смотреть…
– С того конца нельзя вырезать. Где же нам взять?
– Потом разметим. Зелень должна быть с краю. Перед нельзя вырезать. Зад – тоже.
– Красивый будет халат. А папаня говорит: длинный не надо.
– Кляп с ним, с его указами! Мужья у нас – отставники. У меня мой суженый что есть, что нет – не сказывается; он-то может от голода умереть, хотя в холодильнике всегда полно еды. Ну, молодость не без глупости, старость не без дурости. Нет обязанности. Сын Виктор что мне говорит: «Вышел на двести метров за гарнизон – уже холостой».
– Ну, примерно так. Не успеют появиться здесь новички девицы, как угоднички уже лапают. По пляжу гуляют на разведке – отмечают: если она загорелая – отпадает: она уже давно пасется тут; если светленькая еще – годится: только что приехала; если неровно загорела – не годится: местная.
– Тетя, смотри! Смотри! – вскричала вышедшая за калитку у крыльца девочка-вьюнок Вика. – Марсик, делай, как следует! Тетя Рита, и ты смотри, как я его дрессирую. Марсик! Марсик! Нет, не слушается. – Она бросала наземь кусочки колбасы и смеялась: набежавшие желтые утята проворно кидались и схватывали их, а дворняжка медлила. Один утенок в схватке упал на спину и болтал лапками в воздухе – не мог перевернуться на живот. И тогда Рита подошла к нему и ногой перевернула его.
Утка-мать сама ничего не старалась съесть от утят.
– Драмаед ты! Я ж тебе бросаю, Марсик! – говорила Вика.
– Не драмаед, а дармаед, – поправила ее тетя Рита.
– Нет, драмаед! Дурак!
– Как она говорит!
– Драмаед! Драмаед!
– О, как вы шумите! – Выглянула за дверь бабка Варя в очках, держа перед собой журнал в руках. – Вот отошлю вас в Штильное.
– Ах, Штильное, Штильное! – запрыгала девочка. – Там коровки и лошадки есть!
– Позвольте… – подошел к крыльцу Ефим. – Штильное находится западнее Евпатории? Отсюда добраться сложно?
– Ой, проще пареной репы. У меня там сестра двоюродная живет.
– Меня попросили туда заехать… Там что… Можно отдохнуть?
– Богатое, чудное село. На самом берегу. Все есть. Вам понравится. Поезжайте. Я дам адрес. Привет передадите.
XI
Ефим определялся сам с собой: стоит ли теперь заглянуть и туда, в Штильное? Ведь сама Ниннель Никандровна, царственная и великодушная историчка, давняя подруга его тети, уважительно попросила его взглянуть компетентно, способный ли тамошний юноша (о нем написали ей) к тому, чтобы художничать и посвятить себя этому? И что Ефима окончательно сподвигло к решению пуститься по воле волн, он сам не знал и уже не слышал внутреннего голоса ни за, ни против. Он не копался в себе, не доискивался до тайных причин; но втайне предполагал, что это может понравиться Насте, ставшей, видимо, для него мотором перемен. Что ж, назвался груздем – полезай в кузов. Верно. И причем он и сам уже завелся, ровно малый: «И лошадок, может, порисую»…
И когда он позвал Настю поехать на недельку в Штильное, и она с радостью согласилась, сегодняшний день для него уже был в прошлом – он распрощался с ним, перелистнул его страничку.
Признаться, Ефим не жаждал заниматься дешевым благотворительством, каковое он и не мог дать никому (при своей шаткости, неуверенности в завтрашнем дне); что-то претило ему раскрывать внутренние объятия кому-то и проявлять радушие чему-то незнаемому, а познать что-то таковое он не спешил.
Уже было, было, что Ефим благотворительствовал – учил ребят рисовать в некой малочисленной студии, откуда один ученик-ремесленник, начинающий художник, как мнил себя, неожиданно, раз и другой наезжал к нему с показом своих работ. В этом провинциальном юноше странно уживалась робость и упорное непонимание чего-то важного для наполнения творческого поиска, не было готовности к цельной для этого работе. Он хотел учиться на художника, но для этого у него, по мнению Ефима, не было данных; их нужно было отчаянно развивать, для чего много, серьезно работать над собой, а не быть просто убежденным человеком, непонимающим всей правды жестокости искусства, мстящего мастеру за незнание его истоков. Нельзя желать жизни за счет искусства, не создавая ничего значительного, заниматься лишь упрощенчеством. Ефим ревновал к нему профанов, испытывал к ним враждебность. Может быть, потому, что сам познал многие несправедливости: одни – в период эвакуации ребенком в сорок первом году, а другие – в послеодесский период, когда расстался с юностью, с матерью и со старшей сестрой.
И познания действительности не было утешением, требовало стойких усилий и убеждений. Кому что дано.
Ввечеру, у моря, пляжные знакомые словно оживлением и малозначащими словами заполняли образовавшуюся пустоту перед тем, как распрощаться. Надя, журча голоском, успела похвастаться всем, как она теперь научилась кормить козочек. И теперь совсем-совсем это не страшно. Татьяна Васильевна успела рассказать Насте что-то забавное, а также недостойное из опыта школьного, о нелепой смерти мужа при пожаре на даче. А успешный в делах Константин был убежден, что на него обычно накатывают, как заклятие (так и жди), три происшествия в связке. В июне, например, он угодил на трехколесном мотоцикле в придорожную грязную канаву – пожалел кошку, перебегавшую перед ним дорогу; пока пыжился-натуживался, вытаскивая коляску, повредил позвоночник, да и нашел в грязюге, среди сине светившихся незабудок, дорогущие наручные часы, кем-то оброненные здесь. Видимо, он не первым «гостил» в этом кювете.
Бронзовело небо и море в лучах опускавшегося солнца.
XII
И все опять устроилось по-южному сходным образом.
Днем поезд ввез Настю и Ефима в Евпаторию (неуютно-пыльный, показалось, город кипел многолюдьем, детьми), а отсюда они покатили, обгоняя посевные зеленые поляны к Западу, в сторону поселка Штильное – в пикапе «Госсевинспекции». Благожелательно-словоохотливый шофер Никанор, взявший их подвезти, ехал как раз сюда по приказу своего шефа – для того, чтобы договориться о возможности ремонта этой поизносившейся до дырок беговушки: местные были хорошие мастера-ремонтники; ехать же с этим делом в даль дальнюю – на Ижевский завод – было бы сверхубыточно. Зачем переплачивать зря?
Затем Никанор приподнято-радосто сообщил о том, что на-днях его породистая сука-дог, имеющая родословную и взятая в свое время дочкой из клуба собаководства, ощенилась: она принесла восьмерых щенят – совсем-совсем маленьких. Щеняткам постлали помягче подстилку под кроватью. Одного щенка – решено – обязательно подарят приятелю: тот охотник. И у него погибла чудесная собака. И то, что дальше Никанор еще наговорил, пока ехали, много лестного о тамошних жителях и умельцах, о завале всех продуктов животноводства – молока, сливок, сметаны, мяса, яичек – не знают, куда все деть, и стоит все это копейки, и то, что он подвез Настю и Ефима прямо по предложенному им самим адресу, но оказалось, что как раз по нужному адресу, названному скаредной севастопольчанкой, – все это совершенно обнадежило их. Им было очень интересно побывать в сельской местности на просторах полей, на которых Настя и загадала погулять – может быть, в вечерние часы, когда спадет жара.
Вообщем, все предполагало узнать здесь что-то новое. Неожиданное.
Вечерело.
Ефима и Настю определила хозяйка Шарых за умеренную плату в первую южную комнату большого дома. Крупная, с царственной осанкой Полина, имевшая сына-юношу и дочь подростка, умевшая властвовать, командовала в доме. Домашними заботами не утруждал себя хозяин Михаил Михайлович, туз, фигура мощная, – даже не вникал в такие мелочи: ему хватало больших совхозных дел, поскольку он замещал директора.
Мать Полины, кареглазая, с внешностью гречанки Анфиса Юрьевна, без малого семидесятилетняя женщина, в белом платочке и пестросиреневом платье, тяжело свесив крупные руки с отполированной временем кожей, прошла из огорода мимо крыльца:
– Калитку открою. Сейчас же Краснулька, корова, придет. Время, значит.
Открыла. И присела на боковую скамейку: теперь можно и вздохнуть спокойно – ее большой трудовой день, начавшийся, считай, с зарей, почти окончился. Она вздохнула про себя.
– Вы не встречаете буренку в поле? – спросил удивленно Ефим. – Никуда она не забредет?
– Нехай! – Махнула Анфиса Юрьевна рукой. – Говорила же я Вере, внучке; она заартачилась, не пошла. Характерец – о-о, какой! Что у папочки. Папочкина дочка. (Точно: одиннадцатилетняя Вера не пила коровье молоко и поэтому скандалила оттого, что ее посылали за Краснулькой вечером. Она явно не собиралась по взрослении работать в совхозе, подобно и брату своему). А несутся коровы с пастбища домой, как настеганные, чтобы еще подкормиться повкуснее чем. И случается, что забредут куда-нибудь и потравят совхозный посев, что ж.
– И что?