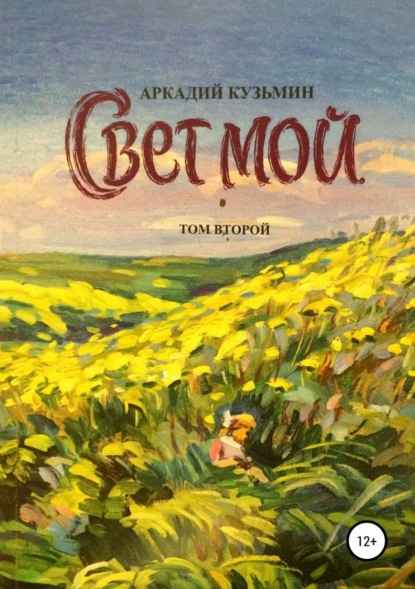По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты чего затормозил? – спросил Костя. – Али загляделся на халявщиков? Товар-пересортица…
– Вроде б высмотрел добычу: подходящие образы, характеры, типы… – признался Ефим. – Если рублики дам, то усажу кого-нибудь – и возьму на карандаш… А что? Да заодно бы и бабулек, что на площади дневают… Может, может быть…
– Эх, был бы, Фима, люкс, если бы зарисовать вживую хотя б нашенских трудяг-мотыльщиков, – оживился Костя. – Такая работящая братва, не хилая, не симулянтская; свойская, открытая, не предающая. Не попрошайствует. И везет ей на приключения. А уж какой прохиндей-артист Партизан (Пашку метко так прозвали) и какие фокусы он порой откалывает – ой, надорвешь живот от смехоты!.. Вот бы в книжке рассказать о похождениях таких – все бы почитали и повеселились… Нет писателей хороших. Все пропали…
– Ну, собратьев пишущих и рисующих, и музицирующих, и танцующих и прочих «щих» нынче-то не счесть – аж в глазах рябит, – возразил Ефим, смеясь, тронутый серьезной детскостью возникавших у Кости желаний. – И все они маются при своих же интересах. Но виновата, во-первых, клиника у них, то есть психика, – она не безупречна, не безгрешна: кого на какое горяченькое тянет… Кто что ищет – и находит…
– А еще что?
– А, во-вторых, технический настрой тянет и художника за собой; а тот бессознательно (и с радостью подчас) теряет профессиональные навыки – не только в технике исполнения, отнюдь. Хватается за первый же инаковый шаблон самовыражения (а есть ли оно вообще?). Мельчит и халтурит второпях. Так удобнее приспособиться к вкусам заказчиков. Неважно, что нет уже высокой планки для подражания. И так сойдет. Москва устоит, хоть ты тресни.
– Да Москва все пережует. И всех переживет. Город мой родной.
– Сейчас проза разветвилась: есть военная, деревенская, лагерная, женская… Графики не приемлят живопись: неумеренные краски; живописцы говорят, что им необязательно знать основы рисунка; авангардисты вообще не признают ничего, никаких художественных канонов. Эгоисты по сути своей, но высочайшего мнения о себе, своих новоделках, они рыкают на родителей, как в худой семье; ты, тупица, мол, молчи в тряпочку, не возникай со своим старьем… Ну, извини, не буду больше пустословить, – озлился на себя Ефим. – Нынче пока серые, ловкие на кону…
– Я лишь понимаю, Фима, – сказал Костя: – те, кто у кормушки кормятся, сами никому не отдадут власть большую. Я понаблюдал. У нас-то (по соседству) и завелся один романист – Романюк, бывший зэк, отсидел в тюряге срок за спекуляцию, как старьевщик. И вот после заделался писателем. Книжку, какую написал о себе, обещал нам подарить, только ее напечатают. Завел темные очки, курительную трубку и овчарку. Впридачу – кралю молоденькую, пройдошливую, видать, кто спуску-то ему не даст ни в каком житейском дележе. А то очевидно…
– Что ж, воля вольному, – заметил только Ефим, как сейчас же самому подумалось: «Я вот тоже сумасшествую с женитьбой-неженитьбой – живу еще с прикидкой этой… Трепыхаюсь…»
V
Изрядно пропекшийся толстяк в панамке, потирая руки, мшистой грудью навис над Ефимом, который бегло зарисовывал в альбом фигурки пляжников в различных положениях и не сразу обратил внимание на того внимание, пробасил:
– Извини, друг, намедни я усек, что ты держишь шахматишки… Одолжи-ка их… Очень просим… Малек поквитаемся, сидячи рядком…
– И возблаженствуем. – Его товарищ был поджарей телом, востроглазей и, пожалуй, милей на вид. – На этом лежбище мозги плавятся – нужно их шевелить… обдумками…
Ефим молча достал из сумки и протянул коробушку достойным просителям. И после продолжил дорисовку лежачих и стоячих загорающих – в интересных ракурсах, – что могло ему пригодиться графически. Здесь, на благословенной южной природе, он чувствовал в себе азарт открывателя естественных натурщиков, наслаждавшихся своим отдыхом. Он увлеченно делал наброски, и до него доходил урывками разговор этих усевшихся поблизости шахматистов – не пустой, заинтересованный.
– Знаешь, Сергей – говорил толстяк, – мой тесть, признанный столичный дорожник, сокрушался: «Нынче молодые рвутся к власти, а когда ее получают, то не знают, как и что сделать умней. Кишка тонка. Потому и мало толковых спецов. Если мы, битые бойцы, специалисты, провинимся в чем-то – никакой пощады нам не будет; а молодым эгоистам все прощается, они не устают нахальничать и скарбезничать в открытую. Во вред стабильности».
– Что приходит, то и уходит: жизнь, Михайлыч, – успокаивал того его товарищ. – Да неизвестно еще, к чему она позовет их, наших деток.
– О да! Согласен. Сверх жизни нам ничто не вместить.
– Ну, а если она позовет, – мы станем рядом, Михайлыч.
– Если к тому времени не развалимся окончательно.
– Ой, не говори! – И оба они засмеялись.
– Суть не в этом, пожалуй, Сергей. – И вновь они рассмеялись.
– В чем же?
– В том, что наши вундеркинды с иронией, а то и с презрением относятся к делам и подвигам своих отцов-консерваторов; им кажется, что они-то стократ революционней, умней, сообразительней, ловчей, предприимчивей. И никакие родительские резоны им не нужны: отметают с ходу их, как балласт, не успеешь и рта раскрыть.
– А разве не с бациллой ироничности, Михайлыч, воспринимаем сами мы все прошлое? Проснись!.. Извечна стервозность людская. Она-то не дремлет, отнюдь!.. Везде прет! Богатый разденет бедного до нога.
– Кто-то из великих поэтов точно сказал: кто умеет делать, тот делает сам, а кто не умеет, тот учит других, как нужно делать.
– Я, знаешь, убежден, что мы, люди, поэтому есть отставшие братья по разуму в гонке выживания. Человеческие прапрародители давным-давно скрылись от своих молодых сородичей-извергов в океанские глубины и еще куда-то навсегда; никакие это не пришельцы космические погуливают на тарелках летающих и вычерчивают на полях круги – забавничают, и при этом избегают нас, как чертей неисправимых. Право…
– Фантастично мыслишь. Обоснуй… версию… в статье…
– Бесперспективно, скажут: парень сбрендил. Вопреки обоснованной периодичности… Куда ж денешь хотя бы бронзовый век? И что нам говорят черепки и кости наших предков, раскопанных на городищах?
– Действительно, наука собирает… вернее, изучает антропогенез…
– Но, посуди сам, Михайлыч, если сотни миллионов лет назад уже гигантские динозавры разгуливали по Земле и усовершенствовалось всякое-превсякое комарье – вплоть до настройства своих мельчайших радаров, то и тогда же развивалось стадо человекообразных, а не спустя сотни миллионов лет после этого – внезапно, будто только что нашу цивилизацию спешно высеяли из лукошка космоса.
– На мученье больше… Как в штрафбат… Примерно…
– Да не скажи… Люд развлекается, пока живет; если нет войны, междоусобиц, смертоубийства, – подай нам постель, секс; ненасытно гребем все до себя, обнищаем нищих, но говорим, что эта дикость – благо для всех, лучше смиритесь и молитесь. Для того и религия придумана. Итак, хожу… Давай, давай, пижон, беги!
– Что, я пешку профукал? Не спеши, обожди! Покамест…
– Тебе жалко пешку? Пешку жалко?
– Ты тоже воспользовался, гад! Заговорил меня… Я забыл…
– Не-е! Просто забегался тут один офицер по доске! Забыл? Это надо немножко и совесть иметь, Михайлыч. Ай-яй! Так вот – ты задумался на этот счет… Пока ты задумался…
– Кость на кость долой! Иди без денег домой.
– Так нехорошо и так нехорошо… Что же воспитания касается… Мы о том ведь заговорили сперва. Я в разговоре с женой не мог не разойтись в скоропалительном отыскивании врагов. Сыну сказал: «Сережа, послушай меня – тебе полезно будет… В жизни на готовенькое не рассчитывай – только на себя; не надейся на дорогу, усыпанную розами; тысячу раз подумай прежде, чем взяться за какую-нибудь ношу. Контролируй себя и в школьных незадачках».
– Да ты должен настоять: «Ты же мужчина, разберись сам!» Бац! Все. Привет семье.
– Не торопись, друг, на тот свет – кабаков там нет. Чтож ты думаешь, я лапоть? Ничего не понимаю? Я тоже сказал в пользу педагога. Мало того, что родители мои были педагогами, но и сам я, юрист, кое-что смыслю в педагогике, хочу воспитать в сыне доброту; это еще мои родители, помню, говорили, когда я выбил футбольным мячом стекло: «За что же исключать школьника из школы – лишь за выбитое случайно стекло? Притом такое маленькое». Пардон: я конем перехожу…
– Вижу. Пешечку подвину. Да, но именно за маленькое стеклышко разбитое расстреляли в тридцать восьмом отца моего знакомого. Он потребовал от отца мальчика, чтобы тот лично вставил новое стекло взамен разбитого, а тот наклепал на него в органы безопасности, и всех-то делов. А тебе скоро будет мат, товарищ…
– Кошмар – расстрельные доносы эти! Самоподстройка… Давай новую партию! И я доскажу…
– Вас – сорок же учеников у одной учительницы, говорю Сережке, – каждому не угодишь. «Хм, сорок, тогда почему на уроке физики сидим – не шелохнемся, возражает он. – Она скажет по-тихому кому: «Положи сюда дневник». – Тот и кладет его безропотно. А тут математичка крикливая так дернула Хватова за ухо, что он аж подпрыгнул от боли; а Хомякова она выгнала с урока ни за что, ошалелая». – И когда он называет Хомякова, поверь, Михайлыч, у меня даже на сердце захолынивает все. Вечно тот полураздет, у него еще сестренка есть – страдалица. Родители безовнимательны к ним, не проявляют ласку – может, еще потому, что он в их глазах как и в глазах других какой-то странный, словно чего-то «нехватает» у него в голове.
– Да, напротив, Сергей, к сирому должно быть лучшее отношение, чтобы он не чувствовал своей ущербности.
– Оттого я внушал Сереже одно: «Вот с этим Хомяковым и надо дружить, помогать ему». «Что же, давать ему списывать»? – спросил сын. «Нет, но поддерживать его», – убеждал я. И Сережа сейчас вроде бы неплохо относится к нему. Касательно же матери Хомякова – швах, провал: в то время как он ходит в рвани, в коротеньких штанишках, из которых давно вырос, она приходит в школу в новой шубке. Напоказ. Ну, что это? Как называется? Такое уж все одноклассники заметили. А Сережка заявил, что во всем виноват Алексей Дмитриевич. Однажды Сережка шел вместе с Воронковым, и они вдвоем решили так. «А кто такой Алексей Дмитриевич»? – спросил я. «Да математик, что был до Анны Андреевны. Он никогда не кричал, не рычал, ориентировался только на пять-шесть лучших учеников – нас. Приходил – давал нам задание. Мы-то сильные, занимались с увлечением, а остальные ребята – нет, делали, что хотели. И он не обращал на них никакого внимания. А теперь и кричат на нас, разучившихся мозговать, и дергают за ухо…»
– Сейчас и нас дернут за уши наши женушки: идут сюда, – проговорил Михайлыч (толстяк).
Действительно, с верху раздался женский возглас, обращенный к шахматистам:
– Эй, московские угодники, замлели, что ли, за игрой? И обедать даже не желаете? Ну-ну!
– Сейчас, сейчас идем! – был ответ играющих.