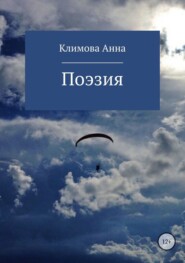По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Завтра мне двадцать пять. Я щекочу пальцами шею от волнения. Вторые съемки, а ощущения все прежние. В Испании сегодня крайне жгучее солнце, надо бы купить минералки.
Завтра мне тридцать шесть. С чего вы взяли, что вы подходите, мистер? В вас есть заряд, но маловато профессионализма. Впрочем, заряд – главное, тут вы правы. Но вы задира! Позовите следующего. Нужно позвонить Джону, спросить, что там с визой. Ох, ей-богу, прекратите болтать о работе. Расскажите, как вам новый фильм Мэлинджиса? Чудный режиссер, что тут скажешь
Завтра мне сорок четыре. Отметим на природе, милый? Устала от людей. В воздухе витает аромат сирени и гордости за нас всех. Каждый из нас уже сделал большое дело. Хорошо, что все только так, а не иначе.
Завтра мне шестьдесят. Мы с Джоном поедем жить в горы, так мы решили. Много ли нам старикам счастья в воплях машин и бегущих рекламах? Думаю, мы все делаем правильно. Если телам нашим и суждено иссохнуть, то не в рутине повседневности. Уйдем счастливыми, Джон?
Как хорошо, что есть сегодня. Мое сегодня. Мне восемнадцать, и все мои завтра еще впереди. Как хорошо, что есть сегодня.
Паузы
Я полагаю, у этого выхлопа эмоций будет вторая жизнь, жизнь Произведения, он обогатится сюжетом и контекстом, фабулой, ничего не скрывающей, но немного пудрящей веки читающего. Однако это должно быть увидено тобой беспорядочным и хаотичным, чтобы не отвлекаться на «оболочку» и прочувствовать «содержимое».
Чтобы быть уверенным, что это не от ума, а от сердца.
Даже когда она молчала и глазами убегала на другие дороги, она следила. Следила, как он говорит другим людям слова или их коконы, как раздувает огонь. Следила, как он смотрит и как много любви в том взгляде. Не потому, что хотела в чем-то убедиться, а потому, что считала, что людей нужно исследовать.
Свою жизнь ей хотелось видеть как последовательность совершенных мгновений, не счастливых безликих вспышек, не вечных глубоких переживаний, а разных, несочетающихся, но совершенных. Ей хотелось видеть каждый день особенным, даже если он был проведен в складках толстого дивана. «Пока я боролась с ленью, я, кажется, придумала новую мелодию и поняла, что жизнь не прожить без сладкого печенья с малиной» – так ей хотелось бы комментировать даже самый незначительный день. Поэтому каждый миг она аккуратно вышивала в своей биографии, и каждое событие было чем-то неотделимым от контекста. Очень часто это сулило необъяснимые крайности в поведении, ведь, чтобы момент оказался «тем самым» приходилось многим жертвовать. Ведь это тонкое искусство – вершить свою жизнь.
Не хотелось получать что-то среднее и пресное, никакого пустого промежуточного звена. Наверное, поэтому, она ненавидела, когда он звонил ради двух слов или забегал на пять минут. «Как же это неверно, нехорошо. Как же ты не можешь понять, ведь я люблю тебя, я хочу диалога глаз( как же мне милы эти наши диалоги!), я хочу тебя весь день, или хотя бы несколько часов, или уходи совсем. Пускай желание настоится, как терпкое вино, только не эти жалкие минуты без счастья и участия» – так она говорила ему холодными жестами.
Он был другим человеком. Событий и людей хватало с лихвой на две жизни, так ощущалась полнота, бурлящая и пенная. В очах часто полыхал огонь, у которого, правда , не было цели. Готовый жить и побеждать, готовый учить и учиться, готовый, кажется, ко всему, он не понимал, зачем эти бочки знаний, хватаемых на лету, хранятся в погребах и понадобятся ли они. Ровно, как и люди.
Так жили они каждый в своей правде: она цедила капли через десять сит, возможно упуская самые ценные и становясь закрытой, а он жадно пил из ручья, вероятно заглотив вместе с живительной влагой немало лишнего.
И каждый раз ей казалось, что в общей гамме «объектов, субъектов и их связей» она важна столько же, сколько и рюкзак, новый знакомый или очередной вечер игры в боулинг, а он терялся под пытками ее исследующих взглядов, всегда пытаясь понять, где же за этим хмурыми настойчивыми глазами прячется его любимая нежная девушка. Конечно, он полагал, что мир она измеряет другими инструментами, но всю тину в ее голове и сердце постичь было невообразимо.
Часто, непозволительно часто, оба терзались и вместе, и порознь. Ее сердце плакало об одном, его о другом, а рты обоих молчали, улыбаясь обманом. Любя друг друга, они прятали проблемы в смирительные рубашки и продолжали молчать. Так рождались паузы.
Ах, до чего же они были невыносимы, эти странные замершие моменты отношений, когда они обсуждали глупости, а порой и гениальные вещи, но души задыхались от чувств. Это были те самые ослабшие звенья, они теперь проникли в каждый день. И осознав, что борьба – это большой труд и там, где есть два человека, пытающихся постичь друг друга, там будут множиться и недопонимания, ей захотелось разбить все в один миг и сделать понятным. Так страшно было оставаться непонятой и не иметь на то разгадки.
И паузы стали прочными и реальными, большими тугими узлами на струнах. Разлука и расставание объясняли любое недопонимание.
Прощаясь, он сказал : «Я так люблю твоих рыб»
«Еще никто не называл тараканов в моей голове так поэтично» – подумала тогда она, улыбнувшись и погрустнев, и сказала: « А я твоих. Но, кажется, они перестали ладить и убивают все тишиной.»
Уходить было легко – рывками бежать без сознания, слушая свист ветра в ушах, заглушающий ритм сбившегося с пути сердца. Остановки, напротив, своим спокойствием резали и полосовали все нутро. Он знал это и останавливал ее, крича: «Да пойми же ты, как больно! Попробуй только вдохнуть свой спертый и затхлый, гордый воздух одиночества. Ты задохнешься.» Она ударила его – таким был ответ на правду.
Шло время и, оказалось, что, в самом деле, одиночество – плохой партнер, но хороший учитель. Оно ограняло мозг, как алмаз, шлифовало каждый его участок, и жизнь стала напоминать колыхания оголённых проводов. Вот только молчать они стали намного больше. Тела, порочные сосуды душ, старели и вздыхали, (впрочем, иногда даже смеялись), но все чувственное и эмоциональное продолжало стоять на вечной паузе.
Дома стали пустыми и, казалось, вся мебель не на своих местах. Зачастую приходилось искать уюта в чужих домах и на чужих улицах. Так мир походил на кино, где сюжеты сплетались удивительно просто, оттого что детали были зашифрованы кулисами, а настоящие фрукты пахли пластиком, хоть и хрустели во рту.
Находясь вблизи любимого человека долгое время, ты старательно вышиваешь в нем лоскуток абсолютно нового и изумительного и, уходя, ты можешь забрать чемодан и свои книги, фотографии и даже все, чего касался, но никогда не заберешь этот тонкий лоскут ручной работы, надежно запрятанный где-то в тенистых зарослях ребер или где-то ближе к горлу, а может на линиях ладони – каждый художник творит по-своему.
И, может, если бы удавалось удалять подобные заплатки, ни ей, ни ему не хотелось бы снова быть рядом.
<…>
Конец опущен по субъективным причинам
Учись играть на их органах
Мы никогда не поймем ее.
Мы никогда не поймем себя.
Мы никогда не поймем друг друга.
Внутри.
Я часто думаю о теле. Рассматриваю костяшки своих пальцев, лодыжки, запястья и другие эстетично привлекательные для меня черты. Что они говорят обо мне? Все или ничего? Что скажут мне чужие лодыжки и переносица? Читать чужое тело трудно. Я верю, что глаза то единственное, через что просвечивает душа. Не совсем «зеркало», но окошко к твоей сущности. Однажды я видела красивый дом: архитектура звала, словно благоухала, а я была довольна, пока не заглянула в окна. Мальчика ругал отец и пытался ударить его, пока тот прятался за шкаф и громко плакал. «Всегда смотри в окна. Только так ты узнаешь правду.» Я повторяла это себе всю дорогу, а потом нашла окна в людей.
Два стеклышка. Я и о своих думала, но они пугали меня. Подолгу смотрела в зеркало и плакала и, после, задавала предсказуемый вопрос: « Кто-нибудь еще плачет, когда видит свои глаза?» А затем я вспоминала, что не здорова.
Я никогда не поверю, что ты счастлив, печален, что тебе смешно, пока не увижу твои глаза. Со мной тяжело. Когда я разглядываю людей, им страшно, и они отворачиваются.
Небо притягивало меня столь же сильно, если вдруг случалось ухватить его прозрачными нитями взгляда. Небо – глаз Бога. Кто-то сказал мне это в детстве, и я решила, что по-другому и быть не может. Оно не убегало, не отворачивалось, всегда встречало бездонной воронкой безмятежности и сознания. Каждый, кто видел небо, забывал, что оно прекрасно. Земля была осязаема, имела границы, а в небе я растворялась. Я кричала : «Пока мы можем смотреть друг в друга, пока Я могу, не отворачивайся ни на секунду!»
Люди не знали, что я люблю глаза, небо и красоту человеческих конечностей. Так уж сложилось, что, заглядывая в мои окна, мало кто разглядывал печальное естество.
Сегодняшний день смеется: «Ты увидела то, что хотела?» Не увидела, но услышала. Моя голова раскалывалась от шума, наглого, сильного, раздирающего изнутри. Орган. Такая мощь. Играет, как ссора Бога и Дьявола.
Что-то случилось. Люди не узнавали Ханну, она и сама себя не узнавала. Девушкой она была своеобразной, но калейдоскоп ее странностей был интересен и завораживал. А теперь что-то произошло, какие-то помехи. Внутри или снаружи?
Снаружи.
Ханна в своей каждодневной рутине использовала два зеркала. В одном текла ее жизнь, печальная, полная тревог и истязающих мук, несправедливая и жалкая. В другом кружились в танце «другие» или (по формуле Ханны) «ВСЕ минус Я». Едва ли правда отражалась хоть в одном, но, привыкнув к их расплывчатым абрисам, поневоле забываешь о самом существовании «правды».
Она обожала улыбки. Иногда она олицетворяла людей с ними. В общем можно сказать она зависела от ярких божьих заплаток на теле: танцующие морщинки у глаз, пронзительный цвет радужки, изящные ключицы, мимические особенности. Эти детали пленяли ее в других людях.
Ханна смотрела на себя в зеркало и плакала. Самое ужасное, по ее мнению, быть обычной. Кто ты такой, если люди не уловили мелодию твоей индивидуальности? Если у тебя нет огромных небесных глаз, замысловатого изгиба бровей? И улыбки, конечно, улыбки. Она ненавидела улыбаться. «Моя улыбка никогда не научит летать.» Пряча, съедая ее, она надеялась, что никто не заметит ее неловкости в отношении к себе, своему облику.
Ханна рассказывает:
« Пример? Ммм…Кажется их слишком много. (Смеется немного нервно.) Допустим, знаете, я собирала деньги на благотворительность, хотела помогать детям, а у самой средств не хватало даже на себя. И я, помнится, с такой завистью поглядывала на тех, кто был обеспечен, завидовала их деньгам, все думала о несправедливости. Ну это так, единичный пример. ( Улыбнулась как-то неумело.) А еще всегда рассматривала людей дотошно и удивлялась их красоте, такой странной, такой своей. Что? Я? Скучная, я от себя быстро устала. Мне плакать хочется, если честно, это ничего? (Продолжает в полуплаче.) Мне кажется, люди не видят моего лица, вообще меня не видят, даже имя на вкус пробуют изредка. Голова у меня болит, когда об этом думаю. Еще эти звуки. Тааам. Тааам-та-таааам. Очень громко. Это еще одна причина им завидовать. Они этого не слышат словно…»
Внутри.
Сегодня снег. В моей голове не укладывается: «Для чего живет снежинка?». Только после вспоминаю, что я в таком же замешательстве относительно целесообразности своего существования.
–Красиво же.
Под ухом тихонько восхищается Виолетта.
–Вио, кто придумывает снежинки?
–Случайность. – пожимает плечами она. – Форма, полученная под воздействием процессов переохлаждения и перенасыщения.
Другие электронные книги автора Анна Сергеевна Климова
Поэзия




 0
0