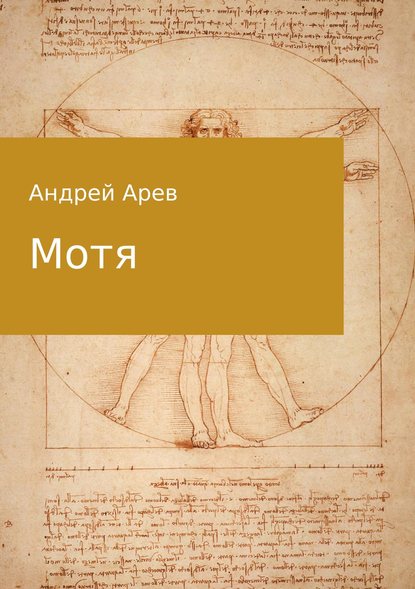По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мотя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она вошла в кафе и в самом углу увидела Нюру Одинцову – та сидела как-то изломанно, свесив голову и покачивая ногами. "Нюра!", – тихо позвала Мотя. Нюра подняла глаза и печально сказала: "Здравствуй, Мотя. У меня спинки нет. Я теперь мавка". Мотя зашла Нюре за спину, и увидела, что школьная форма на спине Нюры вырезана, и самой спины действительно нет – вместо нее было видно подсохшее и местами сочащееся сукровицей мясо, белели точки позвонков, на пояснице, прямо над бурой от крови резинкой рейтуз, прилип схватившийся коркой кусок газеты "Правда", а шелковый треугольник галстука порван в нескольких местах.
– Больно? – участливо спросила Мотя.
– Сейчас уже нет, – ответила Нюра, – корочка вот подсыхает, тянет. Ты не могла бы мне намочить спинку? Кока Смирнов здесь, тоже мертвенький, все еще в очках ходит, представляешь? Такой прекомичный… – Нюра поморщилась.
– У тебя галстук порван, – сказала Мотя.
– Да, я видела, – криво улыбнулась Нюра, – но мне, наверно, он теперь не нужен?
– Кто нас убил, Нюра? – спросила Мотя.
– Ну как же ты не знаешь? – Нюра распахнула на Мотю огромные глаза, – нас убили павлики.
Откуда-то из-под стула, на котором сидела Нюра, вдруг появился белый котенок и внимательно посмотрел на Мотю разноцветными глазами – один голубой, а другой зеленый.
– Ой, какая прелесть! Кто это? – погладила котенка Мотя.
– Это Кельвин, мой друг, – ответила Нюра, – помог мне Коку найти. Знаешь, кот Шредингера – это типичный такой еврейский кот, с ним постоянно не до конца ясно – то ли жив, то ли мертв… а есть еще геперборейский, нордический кот Кельвина, абсолютный в своем абсолютном нуле, стабильный, как РФ, вечно молодой, как генерал Карбышев, сияющий кристаллами своей вечности, такой высший градус кошачьего масонства: -273 С. Ты вспоминай, вспоминай – мы были у Ятыргина, пришли спросить у него о стальном сердце. А потом нас убили.
– А Кока где?
– Придет сейчас.
Мотя поднялась от котенка, дыхание сбилось, в животе снова толкнуло, и она вспомнила как что-то ударяет ее в висок, что-то очень твердое и холодное, и – боль, о какой Мотя даже не знала, что существует такая на свете; однажды на заводской практике она порезала листом жести запястье, было не страшно и даже забавно шевелить пальцами и видеть, как двигаются в ране сухожилия, трудовичка тут же вызвала скорую, а сама положила на рану мазь Вишневского, потому что верила в неимоверную целительную силу линимента – боль началась такая, что Мотю затрясло, она не могла ни стоять на месте, ни кричать, ни даже плакать, хирург потом долго промывал рану перекисью; но та, старая боль была в сотни, тысячи раз слабее новой. Все это – боль, павлики, огненная река Черной Магнитки вспыхнуло в ее голове, и она рухнула на пол.
0
Мотя лежала на коленях у Нюры. Нюра гладила ее по голове, чуть покачивала, и тихонько напевала-бормотала:
– У бедной куколки грипп:
В правом плечике скрип,
Расклеились букли, –
Что дать моей кукле?
Ромашки
Из маминой чашки?
Не пьет…
Все обратно течет.
Собачьей серы
В ложке мадеры?
Опять выливается.
Прямо сердце мое разрывается!
Моте было хорошо, уютно и сонно… Нюра макала ватку в какой-то травяной настой, и обрабатывала Мотину рану на виске.
– Всыплю сквозь дырку в висок
Сухой порошок:
Хинин –
Аспирин –
Антикуклин…
И заткну ей ваткой.
А вдруг у нее лихорадка?
Где наш термометр?
Заперт в буфете.
Поставлю барометр…
Зажмурь реснички.
«Жил-был дед и корова» …
Спи, грипповая птичка!
Завтра будешь здорова.
– Почему ты согласилась, чтобы тебя убили, Нюра? – вдруг спросила Мотя.
– Я поняла, что в посмертии мы сможем вернуться. А я хотела вернуться, – Нюра помолчала, будто подбирая слова, – знаешь, в детстве, там, где мы жили, у нас был сосед. И у соседа был гараж, почти прямо под окнами. В гараже завелись крысы, да они у всех там были, у нас тоже, в курятнике мы их с папой из мелкашки отстреливали, и трупы почти тотчас исчезали – их свои съедали, у них мавзолеев нет. Но это было честно – крысы воровали, мы их отстреливали, у нас была затяжная партизанская война. Любить, чтобы выжить, выжить, чтобы убивать. А сосед – он, знаешь, купил крючок-тройник со стальным поводком, такой, на щуку, прицепил на него кусок сала, и поймал крысу. Я выхожу во двор, май был, все цветет – а там крыса с разодранным ртом, сосед облил ее бензином и поджег. Как она кричала… я к маме побежала, ревела так, что захлебнулась и слова сказать не могла, только рыдала и вздрагивала всем телом. Мама, в конце концов, поняла, что нужно срочно бежать и спасать какую-то крысу. Спасать там, понятно, было уже некого, – Нюра помолчала.
– Я это постепенно забыла, вытеснила как-то. А когда Ятыргин сказал о смерти – я вдруг все ярко так вспомнила, и согласилась. Я вернулась, чтобы убивать. За эту крысу, за всех утопленных котят, за всех брошенных собак. За сбитого машиной коричневого щенка таксы – мальчишка, его хозяин, так и стоял у обочины, схватившись за голову и плача. За двух волков, медведя и верблюда, которых какой-то бродячий цирк в трейлере на стоянке бросил. За кошку Кенгуру – была такая в больнице, где дедушка умер, ей котенком передние лапы какой-то шутник сломал, она выжила, и передвигается теперь на задних, как кенгуру. Всем забавно.… Да я долго могу перечислять, бесконечно долго. Люди не нужны здесь, Мотя.
– Ты не любишь людей?
– Нет. А за что их любить? Люди не нужны здесь, – повторила Нюра.
– А мы?
– Какие же мы люди? Мы куколки. Были куколками. Имажинистов читала? Тоже думали, что они имаго – взрослые насекомые. Где они сейчас? Так что, береги свой састер от народа, – улыбнулась Нюра. – Вставай, пойдем, приведем себя в порядок. Я тут квартирку одну знаю. Кока, идем!
– Привет, Мотя! – сказал появившийся откуда-то Кока. – С возвращением!