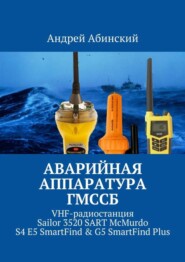По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Розалинда. Морские рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Про музыку? – удивился я.
– С тонким намёком, разумеется. Типа, пианистка на рояле, ох и склизкая штука! Потом… лежит Эля в моей кровати… голенькая. Красивая, стерва, слов нет. Сел я напротив, любуюсь тихо… И тут комиссар заходит!
– Вау! – восклицаю по-английски. – Надо было дверь на ключ закрыть.
– И не говори, увлёкся, понимаешь… А помполит говорит ей: «Эля, принеси капитану нарезочки, пожалуйста. И срочно». Культурный, сволочь!
Любви у начальника с Элей так и не вышло. А свой долг, две бутылки «тропикана», он мне простил.
Французские бараны
На соседнем причале были пришвартованы два траулера. Их пригнали французы, чтобы передать рыбакам Хайфона. Мы частенько выпивали с французами в интерклубе. И на брудершафт, и просто так. Однажды, возвращаясь на судно, зашли к ним в гости. Старпом хорошо говорил по-английски и пытался рассказывать анекдоты. Неосторожно посетовал на кормёжку – у нас заканчивались продукты, а в бедной стране чего-либо купить из снеди было проблематично. Я больше молчал или восхищенно говорил по-французски:
– Жорж Сименон. О!
– Достоевский. О!
– Комиссар Мэгрэ. О!
– Комиссар Бройко – говно! – встрял в беседу второй пом.
– What’s govno? – спросил Жулиан, ихний супервайзер.
Тут же ревизор написал французам краткий разговорник из обиходных матерных слов.
С собой мы унесли миниатюрную копию Эйфелевой башни и несколько порнографических журналов, спрятанных под майками.
Эта история имела продолжение.
Через полчаса к нашему трапу прибыла группа иностранных моряков. Их было трое. Каждый нёс на плече тушу барана, обернутую целлофаном. Процессию возглавлял Жулиан. Дорогу им преградил комиссар Бройко:
– Донт волк! – сказал он. – Янки, го хоме!
Французы что-то тараторили на своем языке. Наконец, Жулиан перешёл на английский:
– Вы очень голодные, – сказал он. – Будет лучше, если мы отдадим мясо вам, чем оставим его вьетнамцам.
– Нормандия-Неман! – воскликнул другой.
Вышел капитан. Он говорил недолго, но громко. О проблемах с карантинными властями, о дружбе между народами, и о том, что у нас всего своего завались. Под конец прорычал: «No! No!! No!!!»
Жулиан обиделся и выпучил глаза. Его рот превратился в узкую щёлку. Француз вынул из нагрудного кармана листок бумаги, взглянул на него и чётко произнес:
– По-щь-ёл на х..!
После этого он скинул баранью тушу в воду, рядом с бортом. Его примеру последовали другие. Расстроенные французы молча ушли. Никто не оглянулся.
Меня вызвал к себе комиссар. Он выглядел строгими и усталым.
– Рассказывай о своих контактах с иностранцами, Абинский.
– Чего рассказывать?.. Посидели, поговорили…
– О чём говорили?
– Про Достоевского, Сименона упомянули…
– Про женщин?
– Ну да, про Анну Каренину тоже.
– А бараны?
– Про баранов ни слова.
– Пиши объяснительную, Абинский. Вы опозорили нашу страну перед этими лягушатниками, перед всей Францией, перед всем цивилизованным человечеством! Соответствующие выводы будут сделаны. Можешь не сомневаться.
Я и не сомневался. За такую политическую близорукость меня разве что не расстреляют.
– С такой характеристикой тебя в тюрьму не возьмут, – пообещал на прощание комиссар.
Объяснительную я так и не написал. Комиссару сказал в упор:
– Зачем я буду клепать на себя?!
В душе я ещё был матросом. И в этой душе закипала лютая пролетарская ненависть.
У старпома пропала материальная книга. В краже Сан Саныч подозревал деда. Но, не пойман – не вор. Амбарная книга была главным документом для сдачи имущества перед разделкой судна на металлолом. Ещё один повод, чтобы прижучить старпома. Саныч целыми днями корпел над накладными, восстанавливая важный документ. Надо было спешить, переход до Владивостока займёт две недели.
Капитан редко появлялся в радиорубке, но каждый раз придирался к чему-либо и хамил. Я отвечал тем же, терять мне было нечего. Мой начальник подвизался к комиссару секретарём-машинисткой – там шили дело. Как-то я спросил напролом:
– Никитич, чего там про меня?
– Не обольщайся на свой счёт, Андрюха, – успокоил меня начальник. – Ты мелкая сошка. Про тебя так, скользом.
– В какую струю попадёшь, – говорю, – а то и не отмоешься. Характеристику мне напишите?
– Пиши сам, я подмахну. А вот мастер…
Характеристику я сочинил, как на героя Советского союза. Не был, не замечен, не состоял, аккуратен, в быту опрятен, с хорошими морскими качествами и светлой головой. В конце нагло рекомендовал себя на должность начальника радиостанции. Никитич подписал её не раздумывая.
Теперь предстояло заручиться подписью капитана. А это, как я справедливо полагал – дохлый номер. Здесь нужно было не торопиться и выбрать подходящий момент.
Уже неделю мы собирали для мастера поздравительные РДО. Завтра ему стукнет шестьдесят лет. «Пенсионер в расцвете сил», – сказал на этот счёт комиссар и велел нарисовать к юбилею ветерана красочную стенгазету.
Местный художник изобразил на листе ватмана титаническую фигуру с лицом Вагнера, держащую на вытянутых руках наш лайнер. При этом пароход был больше похож на судно, чем морда Вагнера на его лицо. По верху рисунка арабской вязью был написан подхалимский стишок с напутствием от парткома, профкома и всего благодарного экипажа.
Вечером, в разгар юбилейного банкета, я постучал в каюту мастера. Дубовая роща, разбавленная пёстрыми березками (судовыми красавицами), была в полном составе.