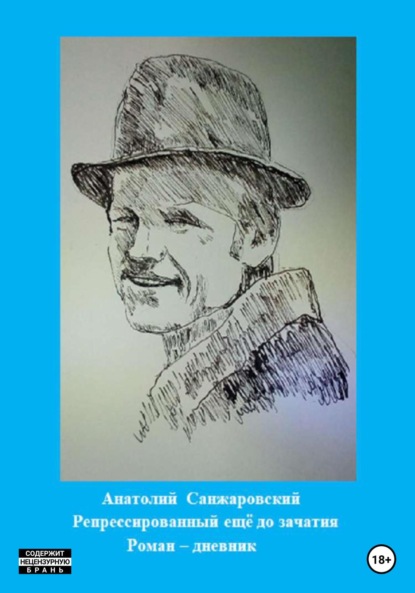По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уже в Воронеже в аптеке у вокзала купил ундевида, аминалона. Всё не с пустыми руками…
Я вошёл.
Мамина койка в прихожей у печки пуста.
Гриша в своей комнате торчит растерянным столбом.
– Привет, начальник, – вяло промямлил я.
Мы молча обнялись.
– Где мама?
– В больнице… Только что я оттуда. Положили. Надо своё полотенце, свою ложку, свою миску, свою кружку, свой стакан. Сейчас понесём.
– Как она себя чувствует?
– Туго… И как получилось… В пятницу встала весёлая. Говорит, будем суп-воду готовить. Начала резать лук. Я побежал, – он посмотрел в окно на сарай напротив, – я побежал в куриный кабинет подкормить кур. Прихожу. Она расшибленно крутится вокруг себя, опало бормочет: «Как же так оно получилось, что пропала память?..» Я спрашиваю: что Вы ищете? Оказывается, нож. Уронила. И пальцем стучит по луковице. Режет пальцем… Я испугался. Уложил её и позвал соседку Шурочку. Она медсестра. «Шур, иди на секунду. Посмотри на мать». – «Или лечить я стану?» – «Лечить не надо. Ты просто войди. Как она среагирует на постороннего человека?» Шура вошла. Мама забеспокоилась. На локте привстала на койке: «Вы что хотите со мной делать?» – «Да ничего мы с тобой, бабушка, не собираемся делать… Брёвна раскатились. Прибегла Гришу дозвать, чтоб собрать помог». Шура ушла. Я вызвал скорую. Скорая сказала, надо на приём к невропатологу. А уже ночь. Мама молчит. А вдруг что случится? Ты всегда наказывал: звони в тяжёлых случаях. Как знаешь, телефона у меня нет. Я к Мите. Митя и позвони тебе. А когда он пришёл, мама его не узнала. Минут десять не узнавала. Оно и неново. Хоть Митя в своих хоромах и живёт-княжит в ста шагах от нас, а к нам редко заскакивает… В субботу невропатолога не было. Вызвали в Острянку. В понедельник собираемся в поликлинику. Вон, – ткнул он рукой в окошко, – на наших задах. Говорю, давай отвезу. Нет! Пошли пешком! Я упросил очередь разрешить пройти нам сразу. Так мама упирается: «Не! Люди прийшли под перёд нас. Да як это мы пойдём зараньше всех?» Вот какая у нас мамушка. В очередь! А сама на ногах еле держится. Ей же уже восемьдесят два! Врач Белозёрцев увидал её – кладём!
Бочком мы вжались к маме в тесную четыреста четырнадцатую палату. Её койка у двери.
Меня мама узнала сразу.
Я поклонился, поцеловал её.
И мама загоревала:
– Толенька, сынок-розочка, приихав… А я барыней царюю в больнице! Это дела? Така беда скрутилась, така беда… Ну шо поделаешь? Беда на всякого живёт… Толька, ты теперь батько?
– Батько? – не сразу сообразил я.
– Ну что ж он, маленький, робэ? Ростэ хоть чуть-чуть?
– Баклуши не сбивает! Некогда! Знай растёт колокольчик наш с шелковистыми русыми волосами!
– Хай ростэ великим! Хороше вы его назвали… Гриша…
– В честь этого дорогого товарисча, – пожал я Грише локоть. – Мы своего маленького ещё ни разу не снимали на карточку. Поэтому я привёз показать Вам метрику нашего Гришика. Нате посмотрите.
Мама тихонько погладила метрику. Прошептала:
– Хай ростэ великим!..
Мы стали выкладывать, что принесли, и выбежало, мы с Гришей забыли взять кружку и миску.
Я сбегал принёс.
– Гриша, – сказала мама, – не сидите голодняком. Зарубайте петуха.
– Сегодня же отсобачу Вашему петрунчику башню! – на вспыхе пламенно пальнул Григорий.
А мама, вздохнув, запечалилась:
– Как же так беда случилась?.. Человек полный день невменяемый!
Потом она заговорила неясно.
Слова вязкие, непонятные.
Я поддакивал и боялся смотреть ей в лицо.
Дома мы с Гришей сварили петуха.
Банку с горячим бульоном я укутал в полотенце, сунул под полу плаща – шёл дождь – и побежал к маме.
Есть она не стала. Говорит, не хочется.
– Мам, – спросил я осторожно, – а что у Вас болит?
– Голова. Одна сторона, левая, молчит. А другая, – приложила руку к правому виску, – лаеться…
Я по все дни ходил к маме, пока её не выписали из больницы.
Июнь-июль 1992
Банда
– Взовсим, сынок, дни утеряла. Ну раз головешка, – пальцем мама стучит себя по лбу, – не робэ! Сёгодни шо будэ?
– Четверг.
– Совсем в словах запутлялась… И в словах, и в годах… Воспоминается… Горбачёв людей размотал. А теперь кочуе по заграничью… Какие мы у них рабы… Той проклятущий чай… Вскакувалы летом вдосвита у четыре и в устали приползали домой не знай когда. Когда того погибельного, каторжанского чая уже не видать. В одиннадцатом часу ночи! И… Тилько первый свет подал день в окно, знову вскакуй…
– Помню, помню преотлично то проклятое рабское времечко… – припечалился я. – Как же Вы допекали по воскресеньям… Темь на дворе. А Вы будите… Да как! Вырывали подушку из-под головы, молили со слезами в голосе: «Уставай, сынок… То не сон, як шапку в головах шукають…». Я сел на койке, протираю кулаками глаза. Вы: «Просыпайся скоришь. На выходной бригадир припас гарный участок. Постараемось, нарвэмо богато чаю. Шо, гляди, и заробымо…». – «Ну… Вырвали подушку… Шапку-то нашли?» – «Найшла! Просыпайся, просыпайся, шапочка… Лева ножка, права ножка просыпайся понемножку…».
Мама повинно тихонько улыбнулась мне:
– Прости, сыно, за те давни проклятущи утрешни побудки…
– Да при чём тут Вы!? То не Вы, мам… То нищета будила!
– Оно-то так… По семнадцать часов у кажный день гнулись раком на том проклятом чаю! Без выходных… Жара под сорок… То дожди… Все твои… С плантации не уйди… Клеёнкой обмоталась и рви той чай… Разве то жизня? Рабская каторга… На минуту с чем в хате завозюкаешься – бригадир бах палкой в окно: Полиа! Аба бэгом на чай!.. Цэ людская живуха? То и пожили по-людски, шо до колхоза… Летять года… Летять… Не остановишь и на секунд. Ну это надо? Налетела целая чёрная шайка коршунов. Восемь десятков да ещё два! Целая банда. И как же они меня мучат. И шо я одна-то сделаю с этой злой бандой? От своих годов не убежишь… Их не отгонишь от себя… Снежком не прикроешь… Боюсь я их. Голова не свалилась бы… Мно-ого годов ко мне содвинулось. Но никто не видел, как они днями и ночами шли-летели ко мне… Только мелькают зима – лето, зима – лето…
– А поют, мои года – моё богатство.
– Да петь шо хошь можно. А года – это полный разор. И чем большь их, тем звероватей они. Ну шо ж… Старое вянет, молодое на подходе… У маленького малютки Гриши личико худенькое или полненькое?
– По-олненькое.
Я вошёл.
Мамина койка в прихожей у печки пуста.
Гриша в своей комнате торчит растерянным столбом.
– Привет, начальник, – вяло промямлил я.
Мы молча обнялись.
– Где мама?
– В больнице… Только что я оттуда. Положили. Надо своё полотенце, свою ложку, свою миску, свою кружку, свой стакан. Сейчас понесём.
– Как она себя чувствует?
– Туго… И как получилось… В пятницу встала весёлая. Говорит, будем суп-воду готовить. Начала резать лук. Я побежал, – он посмотрел в окно на сарай напротив, – я побежал в куриный кабинет подкормить кур. Прихожу. Она расшибленно крутится вокруг себя, опало бормочет: «Как же так оно получилось, что пропала память?..» Я спрашиваю: что Вы ищете? Оказывается, нож. Уронила. И пальцем стучит по луковице. Режет пальцем… Я испугался. Уложил её и позвал соседку Шурочку. Она медсестра. «Шур, иди на секунду. Посмотри на мать». – «Или лечить я стану?» – «Лечить не надо. Ты просто войди. Как она среагирует на постороннего человека?» Шура вошла. Мама забеспокоилась. На локте привстала на койке: «Вы что хотите со мной делать?» – «Да ничего мы с тобой, бабушка, не собираемся делать… Брёвна раскатились. Прибегла Гришу дозвать, чтоб собрать помог». Шура ушла. Я вызвал скорую. Скорая сказала, надо на приём к невропатологу. А уже ночь. Мама молчит. А вдруг что случится? Ты всегда наказывал: звони в тяжёлых случаях. Как знаешь, телефона у меня нет. Я к Мите. Митя и позвони тебе. А когда он пришёл, мама его не узнала. Минут десять не узнавала. Оно и неново. Хоть Митя в своих хоромах и живёт-княжит в ста шагах от нас, а к нам редко заскакивает… В субботу невропатолога не было. Вызвали в Острянку. В понедельник собираемся в поликлинику. Вон, – ткнул он рукой в окошко, – на наших задах. Говорю, давай отвезу. Нет! Пошли пешком! Я упросил очередь разрешить пройти нам сразу. Так мама упирается: «Не! Люди прийшли под перёд нас. Да як это мы пойдём зараньше всех?» Вот какая у нас мамушка. В очередь! А сама на ногах еле держится. Ей же уже восемьдесят два! Врач Белозёрцев увидал её – кладём!
Бочком мы вжались к маме в тесную четыреста четырнадцатую палату. Её койка у двери.
Меня мама узнала сразу.
Я поклонился, поцеловал её.
И мама загоревала:
– Толенька, сынок-розочка, приихав… А я барыней царюю в больнице! Это дела? Така беда скрутилась, така беда… Ну шо поделаешь? Беда на всякого живёт… Толька, ты теперь батько?
– Батько? – не сразу сообразил я.
– Ну что ж он, маленький, робэ? Ростэ хоть чуть-чуть?
– Баклуши не сбивает! Некогда! Знай растёт колокольчик наш с шелковистыми русыми волосами!
– Хай ростэ великим! Хороше вы его назвали… Гриша…
– В честь этого дорогого товарисча, – пожал я Грише локоть. – Мы своего маленького ещё ни разу не снимали на карточку. Поэтому я привёз показать Вам метрику нашего Гришика. Нате посмотрите.
Мама тихонько погладила метрику. Прошептала:
– Хай ростэ великим!..
Мы стали выкладывать, что принесли, и выбежало, мы с Гришей забыли взять кружку и миску.
Я сбегал принёс.
– Гриша, – сказала мама, – не сидите голодняком. Зарубайте петуха.
– Сегодня же отсобачу Вашему петрунчику башню! – на вспыхе пламенно пальнул Григорий.
А мама, вздохнув, запечалилась:
– Как же так беда случилась?.. Человек полный день невменяемый!
Потом она заговорила неясно.
Слова вязкие, непонятные.
Я поддакивал и боялся смотреть ей в лицо.
Дома мы с Гришей сварили петуха.
Банку с горячим бульоном я укутал в полотенце, сунул под полу плаща – шёл дождь – и побежал к маме.
Есть она не стала. Говорит, не хочется.
– Мам, – спросил я осторожно, – а что у Вас болит?
– Голова. Одна сторона, левая, молчит. А другая, – приложила руку к правому виску, – лаеться…
Я по все дни ходил к маме, пока её не выписали из больницы.
Июнь-июль 1992
Банда
– Взовсим, сынок, дни утеряла. Ну раз головешка, – пальцем мама стучит себя по лбу, – не робэ! Сёгодни шо будэ?
– Четверг.
– Совсем в словах запутлялась… И в словах, и в годах… Воспоминается… Горбачёв людей размотал. А теперь кочуе по заграничью… Какие мы у них рабы… Той проклятущий чай… Вскакувалы летом вдосвита у четыре и в устали приползали домой не знай когда. Когда того погибельного, каторжанского чая уже не видать. В одиннадцатом часу ночи! И… Тилько первый свет подал день в окно, знову вскакуй…
– Помню, помню преотлично то проклятое рабское времечко… – припечалился я. – Как же Вы допекали по воскресеньям… Темь на дворе. А Вы будите… Да как! Вырывали подушку из-под головы, молили со слезами в голосе: «Уставай, сынок… То не сон, як шапку в головах шукають…». Я сел на койке, протираю кулаками глаза. Вы: «Просыпайся скоришь. На выходной бригадир припас гарный участок. Постараемось, нарвэмо богато чаю. Шо, гляди, и заробымо…». – «Ну… Вырвали подушку… Шапку-то нашли?» – «Найшла! Просыпайся, просыпайся, шапочка… Лева ножка, права ножка просыпайся понемножку…».
Мама повинно тихонько улыбнулась мне:
– Прости, сыно, за те давни проклятущи утрешни побудки…
– Да при чём тут Вы!? То не Вы, мам… То нищета будила!
– Оно-то так… По семнадцать часов у кажный день гнулись раком на том проклятом чаю! Без выходных… Жара под сорок… То дожди… Все твои… С плантации не уйди… Клеёнкой обмоталась и рви той чай… Разве то жизня? Рабская каторга… На минуту с чем в хате завозюкаешься – бригадир бах палкой в окно: Полиа! Аба бэгом на чай!.. Цэ людская живуха? То и пожили по-людски, шо до колхоза… Летять года… Летять… Не остановишь и на секунд. Ну это надо? Налетела целая чёрная шайка коршунов. Восемь десятков да ещё два! Целая банда. И как же они меня мучат. И шо я одна-то сделаю с этой злой бандой? От своих годов не убежишь… Их не отгонишь от себя… Снежком не прикроешь… Боюсь я их. Голова не свалилась бы… Мно-ого годов ко мне содвинулось. Но никто не видел, как они днями и ночами шли-летели ко мне… Только мелькают зима – лето, зима – лето…
– А поют, мои года – моё богатство.
– Да петь шо хошь можно. А года – это полный разор. И чем большь их, тем звероватей они. Ну шо ж… Старое вянет, молодое на подходе… У маленького малютки Гриши личико худенькое или полненькое?
– По-олненькое.