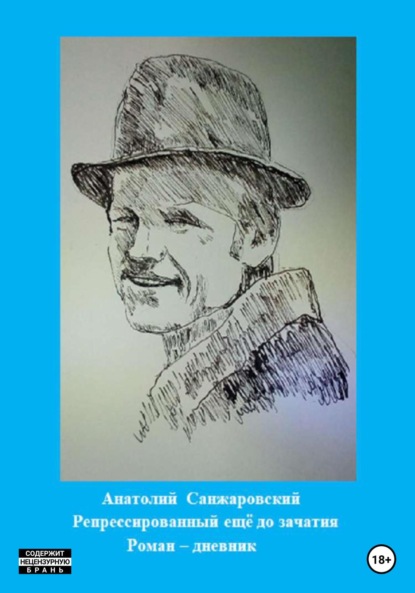По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вздремнул. Поплевал. Покурил…
Покурил. Поплевал. Вздремнул…
Обложил матом проходившую мимо русскую девушку, раз отказалась от его пылкого приглашения присесть на корточки рядом и покурить…
О! Уже вечер. Надо грести дремать уже дома.
В великих трудах и проходил грузинский день…
По приметам, сегодняшний дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Д что нам будущий год? Убрать бы то, что этим летом выросло.
Я смотрю, как белыми ядрами дождина обстреливает беззащитные картошины, и мне становится не по себе.
– Гриша! Ну зачем ты сразу пол-огорода выбурхал? Теперь вся картошка наверху. Лежит купается бедная. В земле б она спала сухая…
– Кто ж знал, что так оно крутанётся?
– Я ж тебе и раньше не раз выпевал… Надо… Выкопал с комнату. Подбери. Подобрал – снова копай. А ты? Ты как тот перегретый на солнцежоге грузын. Только познакомился с крутишкой и тут же норовит спустить с себя свои тряпочки, пламенно уговаривая её срочно последовать его горячему примеру. Всё шиворот-набекрень!
Как только дождь чуть сбавлял обороты, мы в судороге втыкались в землю. Три мешка выбрали.
Мы уже не обращали внимания на дождь. Бросили придерживать плащи.
Автоматными очередями палили они на ветру у нас за спинами.
В низу бугра сидели на корточках копальщики, насунув на головы белые цинковые и красные, зелёные пластмассовые вёдра.
– Люди живут кучками, – с тоской глянул Гриша вниз. – А мы по-одному… По-одному. Или мы бирюки?
Брюки на мне мокры до самой развилки.
Ребром ладони я сталкиваю воду с колена.
– Это уже не картошка! – сожалеюще кривится Гриша. – Это уже могила. Давай дуй к мамке в чум!
– Да, может, ещё размечет ветер эту хлябь?
Я смотрю на мутно-светлый клок неба.
Божечко мой! Подай солнышка…
– С-солнце! – распрямившись, варяжно рявкнул Григорий в оружейных хлопках плаща.
Великанистый, могучий, в размётанной по груди былинной бороде, он и впрямь походил на богатыря.
– Страшно! Вся Гусёвка чёрная, – показал он на низ неба. – Все пакости от госпожи Гусёвки! Иди, пока ещё ходится. Я не понимаю, зачем ты прибежал!
Я тоже не понимал. Был ветер. Заходил дождь. Все основания для домашней отсидки.
Но я приплёлся.
Наработал!
Весь мокрый. Потряхивает озноб.
Гриша наступил ногой на куст, к которому я потянулся обирать.
– Командировка выписана. До-мой!
Я не стал противиться. Выписана так выписана.
– Извини, – бормотнул я повинно и побрёл к дороге.
Я шёл с бугра боком, боясь загреметь на осклизлой мокреди.
Глубокие калоши нацепляли пуды грязи, выворачивались, всё норовили сорваться с ног. И срывались.
Тогда я тыкался бумажным носком в сырь.
У большака две милые юницы в лёгких платьицах, мокрые, как вода, сушили на ветру газовые косынки, поднявши их над головами, и беззлобно препирались. Уходить или не уходить?
– Скажите, – обратились они ко мне. – Рассудите нас. Дождь будет?
– Нет! – вызывающе крикнул я.
– Тогда чего ж капитулировали со своего картофельного рубежа?
– Родина приказала!
– А-а, – уважительно покивала головой одна янгица. – А в том приказе не было наших фамилий?
Я сделал вид, что не слышал, и пошёл себе.
– Да айдаюшки и мы! Бу-удет дождь. Ещё какой! Чего?! Картошка не наша…
Я не вытерпел и съехидничал:
– Обязательно будет! Ну раз картошка-то не ваша!
И радостные девичьи ноги в шалости благодарно зашлёпали по грязи у меня за спиной.
Асфальт дороги залила жижа пальца на полтора, и всякая пробегающая машина норовила оплевать тебя с корени до вышки.
Дорога немного разогрела меня. Расхотелось одному плестись, я срезал шаг. Авось нагонят милые улыбашки.
Только я так подумал, как пеструшек окликнул старчик со встречной телеги. В кузовке он стоял на коленях с вожжами в руках. Ноги в кирзовых сапогах держали попиком жёлтое пластмассовое корыто. Казалось, ехал дед в жёлтой нише.
– Дедунюшка! – крикнула одна из девушек, грациозно всплывая на телегу. – Да что ж вы едете, как в стоячем гробу?!
Покурил. Поплевал. Вздремнул…
Обложил матом проходившую мимо русскую девушку, раз отказалась от его пылкого приглашения присесть на корточки рядом и покурить…
О! Уже вечер. Надо грести дремать уже дома.
В великих трудах и проходил грузинский день…
По приметам, сегодняшний дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. Д что нам будущий год? Убрать бы то, что этим летом выросло.
Я смотрю, как белыми ядрами дождина обстреливает беззащитные картошины, и мне становится не по себе.
– Гриша! Ну зачем ты сразу пол-огорода выбурхал? Теперь вся картошка наверху. Лежит купается бедная. В земле б она спала сухая…
– Кто ж знал, что так оно крутанётся?
– Я ж тебе и раньше не раз выпевал… Надо… Выкопал с комнату. Подбери. Подобрал – снова копай. А ты? Ты как тот перегретый на солнцежоге грузын. Только познакомился с крутишкой и тут же норовит спустить с себя свои тряпочки, пламенно уговаривая её срочно последовать его горячему примеру. Всё шиворот-набекрень!
Как только дождь чуть сбавлял обороты, мы в судороге втыкались в землю. Три мешка выбрали.
Мы уже не обращали внимания на дождь. Бросили придерживать плащи.
Автоматными очередями палили они на ветру у нас за спинами.
В низу бугра сидели на корточках копальщики, насунув на головы белые цинковые и красные, зелёные пластмассовые вёдра.
– Люди живут кучками, – с тоской глянул Гриша вниз. – А мы по-одному… По-одному. Или мы бирюки?
Брюки на мне мокры до самой развилки.
Ребром ладони я сталкиваю воду с колена.
– Это уже не картошка! – сожалеюще кривится Гриша. – Это уже могила. Давай дуй к мамке в чум!
– Да, может, ещё размечет ветер эту хлябь?
Я смотрю на мутно-светлый клок неба.
Божечко мой! Подай солнышка…
– С-солнце! – распрямившись, варяжно рявкнул Григорий в оружейных хлопках плаща.
Великанистый, могучий, в размётанной по груди былинной бороде, он и впрямь походил на богатыря.
– Страшно! Вся Гусёвка чёрная, – показал он на низ неба. – Все пакости от госпожи Гусёвки! Иди, пока ещё ходится. Я не понимаю, зачем ты прибежал!
Я тоже не понимал. Был ветер. Заходил дождь. Все основания для домашней отсидки.
Но я приплёлся.
Наработал!
Весь мокрый. Потряхивает озноб.
Гриша наступил ногой на куст, к которому я потянулся обирать.
– Командировка выписана. До-мой!
Я не стал противиться. Выписана так выписана.
– Извини, – бормотнул я повинно и побрёл к дороге.
Я шёл с бугра боком, боясь загреметь на осклизлой мокреди.
Глубокие калоши нацепляли пуды грязи, выворачивались, всё норовили сорваться с ног. И срывались.
Тогда я тыкался бумажным носком в сырь.
У большака две милые юницы в лёгких платьицах, мокрые, как вода, сушили на ветру газовые косынки, поднявши их над головами, и беззлобно препирались. Уходить или не уходить?
– Скажите, – обратились они ко мне. – Рассудите нас. Дождь будет?
– Нет! – вызывающе крикнул я.
– Тогда чего ж капитулировали со своего картофельного рубежа?
– Родина приказала!
– А-а, – уважительно покивала головой одна янгица. – А в том приказе не было наших фамилий?
Я сделал вид, что не слышал, и пошёл себе.
– Да айдаюшки и мы! Бу-удет дождь. Ещё какой! Чего?! Картошка не наша…
Я не вытерпел и съехидничал:
– Обязательно будет! Ну раз картошка-то не ваша!
И радостные девичьи ноги в шалости благодарно зашлёпали по грязи у меня за спиной.
Асфальт дороги залила жижа пальца на полтора, и всякая пробегающая машина норовила оплевать тебя с корени до вышки.
Дорога немного разогрела меня. Расхотелось одному плестись, я срезал шаг. Авось нагонят милые улыбашки.
Только я так подумал, как пеструшек окликнул старчик со встречной телеги. В кузовке он стоял на коленях с вожжами в руках. Ноги в кирзовых сапогах держали попиком жёлтое пластмассовое корыто. Казалось, ехал дед в жёлтой нише.
– Дедунюшка! – крикнула одна из девушек, грациозно всплывая на телегу. – Да что ж вы едете, как в стоячем гробу?!