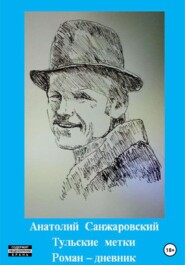По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наши в ТАССе
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так вот он как зальёт радиатор, так на стенку хочет лезть. Как эта болезнь называется?
– Стенокардия! – выпаливает всезнайка Марутов.
Татьяна толкает меня в локоть:
– Толенька, ты нашёлся?
– Как видишь…
– А вчера почему тебя не было?
– Тебе скажи, ты и знать будешь!
– А всё же?
– Ну… Примёрз к дивану. Сегодня еле отодрался.
Она дёргает носом:
– Какой-то запах… Или самовозгорание где?
– Не переживай. Самовозгорание у нас возможно только от любви…
Трёп обрывается. Все воткнулись в газеты.
– Знаешь, – тихонько говорю я Татьянке, – вчера я встречался со своим бывшим хозяином, койку когда-то у него снимал. Занятную штуку он выворотил! Он и раньше мне про это говорил… Оказывается, и ты, и я были тассовцами ещё задолго до нашего появления на Тверском, десять-двенадцать. Мы и не думали ещё переступать порог ТАССа, а уже были тассовцами!
– Какая-то байда на кривой палочке! Чистый пурген![282 - Пурген – вздор.]
– Я тоже так сперва думал… Он как раскладывает пасьянс? Со своего рождения, твердит он, и до смерти всякий у нас является тассовцем! Люди общаются, обмениваются новостями всякими. Житейскими, новостями страны. Чем каждый человечек не ТАСС в миниатюре?
– Гм… Тут что сверкнуло…
– О! – вскинул руку Молчанов. – «Советская торговля» дала моды на следующий год. Юбки теперь будут носить длинные! Ну, – тычет пальцем в Бузулука, – ты допился до своего? Длинные юбки будут в моде! Тебя это не колышет?
– Только да… От этой новости грусть меня грызёт. Хоть я не кость и не собака…
– Прощайте, милые женские коленочки, – припечалился я.
– Ну и ну, – вздохнула Марина. – Теперь вслепую придётся играть.
Сева внёс руководящую ясность:
– Когда играли в светлую, всё равно темно было.
Татьяна серьёзно, как умная Маня, принимает ингаляцию[283 - Принимать ингаляцию – курить.] в коридоре. Пепел стряхиват в газетный кулёчек. Затягивается с остервенением. Жутко видеть.
– Тань, – говорю ей. – Один умный дядечка сказал: «Курить бросают все – умные ещё при жизни». А ты не пробовала бросить союзить?[284 - Союзить – курить.]
– Пробовала и не раз. Больше не буду и пробовать. Дохлый же номер! Собачий сон!
А я вот сумел бросить в тринадцать лет.
Вспоминается то розовое время безалаберности…
Избирательность памяти коварна.
Не помню я ни лица, ни имени учительницы, научившей читать, писать. Зато расхорошо помню другого своего первого учителя. По курению. Точно вчера с его урока.
Васька!
Лохматый двадцатилетний лешак. Таскал и в лето и в зиму неизменно по две фуфайки. Всаживал одну в одну. Как матрёшки. И круглый год бегал в малахае. Это-то на Кавказе! (Дело пеклось в местечке для репрессированных выселян Насакирали, на самой макушке Лысого косогора.)
Васька был большой бугор (начальник).
А я маленький.
Васька пас коз, я пас козлят. С мая по сентябрь, конечно. В каникулы.
В рабочей обстановке мы не могли встречаться, хотя производственная необходимость в том и была. Сбежись наши стада, это чревато… Вернутся козы домой без молока.
У Васькиных коз и у моих козлят были прямые родственные связи. Как говорил Васька, это была кругом сплетённая родня.
Однако в обед, когда наши табунки порознь дремали в прохладе придорожных ёлок, мы с Васькой сходились на бугре. Третьим из начальства был Пинок, важный Васькин пёс с добрым лицом. Всегда держался он справа от Васьки. Был его правой рукой.
Козы были по одну сторону бугра, козлята по другую. Они не видели друг друга. Зато мы с Васькой видели и тех и других. У хорошего пастуха четыре глаза! И если уж они паче чаяния кинутся на сближение, им другого пути нет, как только через наши трупы.
Ну разве мы допустим их воссоединения?
И вот однажды в один из таких обеденных перерывов – было это в воскресенье тринадцатого июля 1952 года – мы сошлись. Запив полбуханки глиноподобного кукурузного хлеба литром кипячёного молока из зеленой бутыли, посоловелый Васька – а было так парко, что, казалось, плавились мозги, – разморенно вставил себе на десерт в угол губ папироску. С небрежным великодушием подал и мне.
Я в страхе попятился. Спрятал руки за спину.
– Ты чего? – удивился Васька. – Кто от царского угощенья отпрыгивает по воскресеньям?
– Я не к-кур-рю… – промямлил я оправдательно.
– А-а! – присвистнул Васька. – Вон оно что! Мамкин сосунчик! Долго ж тебя с грудного довольства не спихивают. Сколько тебе?
– Тринадцать.
– Уже всейно тринадцать! – Васька в панике пошатал головой. – Какой ужас!.. Во! – Васька щёлкнул пальцем по газете, в которую был завернут оставшийся после обеда шмат чахоточно-желтого кукурузного хлеба кирпичиком. – Вон шестилетний индонезийский шкеток Алди Ризал в день выкуривает по сорок сигаретин! Учись! О мужик! А ты?.. Тоскливый ты кисляй…
Васька лениво мазнул меня пальцем по губам.
Брезгливо осмотрел подушечку пальца. Вытер о штаны.
– Мда-а… Молочко ещё не обсохло. Мажется, – трагически констатировал он. – Несчастный сосунчик!