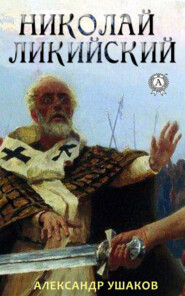По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ататюрк: особое предназначение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сев или, вернее, упав на софу после приветствий, Вахидеддин надолго закрыл глаза, а затем, с огромным трудом подбирая слова, произнес несколько невнятных фраз и снова впал в летаргию.
В знаменитом романе Гашека есть замечательное по своей сути определение: слабоумный идиот.
И именно таким вот слабоумным идиотом и предстал перед Кемалем шестидесятилетний принц.
Однако в купе, куда его сразу же пригласил Вахидеддин, когда они сели в поезд, Кемаль, к своему великому удивлению, увидел совсем другого человека.
От вялости и тупости во взгляде не осталось и следа, и теперь перед ним сидел совершенно нормальный и, что самое главное, живой человек.
Когда же этот человек заговорил, он поразил Кемаля еще больше.
Принц вовсе не был слабоумным идиотом и, слушая сбросившего маску Вахидеддина, Кемаль все больше убеждался в этом.
Ничего удивительного в таком преображении не было.
В течение целых шестидесяти лет этот живший во дворце и окруженный со всех сторон шпионами своего дяди Абдул-Хамида человек должен был с утра до вечера притворяться и скрывать свои мысли, дабы не возбудить подозрений.
С этой минуты почти все свое время Кемаль проводил с принцем и в его все более откровенных беседах слышал явный намек на то, что он будет совсем другим султаном, нежели его предшественники.
Правда, каким именно, Вахидеддин так и не пояснил, и Кемалю оставалось только догадываться.
Понятно, что после этих бесед он стал смотреть на сидевшего напротив него человека совсем другими глазами.
Принц продолжал фантазировать всю долгую дорогу до Берлина, а когда, утомленный речами, замолкал, Кемаль почтительно замечал, что и сам думает так же.
Всю дорогу он делал все возможное, чтобы как можно сильнее расположить к себе будущего монарха, и, на его великое счастье, ему это удалось.
В Германии их ждала поистине царская встреча, и сам кайзер Вильгельм с необычайной торжественностью принял их в своей штаб-квартире в Вад-Креузнахе.
Кайзер оказался достаточно информированным о положении дел на фронтах и, к великому удивлению Кемаля, спросил у него, не он ли командовал тем самым знаменитым Шестнадцатым корпусом на Дарданеллах.
Польщенный таким вниманием Кемаль почтительно склонил голову.
Но стоило только маршалу Людендорфу попытаться убедить принца в конечной победе германского оружия, как смиренное выражение исчезло с его лица и он во всеуслышание выразил глубокое сомнение в ни на чем не основанной убежденности маршала.
Все сделали вид, что не заметили бестактности турецкого генерала, но, когда военный комиссар Эльзаса обрушился на османское правительство из-за его политики в отношении армян и Кемаль резко оборвал его, все почувствовали легкое смущение.
– Мы приехали к вам обсуждать проблемы германской армии, – неприязненно глядя комиссару в глаза, отчеканил он, – а не ситуацию с армянским населением! И поверьте, нам есть о чем поговорить!
Но настоящий скандал разразился после обеда у кайзера, на котором Кемаль с прямотой римлянина заявил, что вынашиваемые Берлином планы есть самая настоящая химера и Германии ничто уже не поможет выиграть войну.
Впрочем, Кемаль поражал немцев не только уже хорошо известной им непредсказуемостью, но и блестящими военными познаниями, как это было на проходившей в Эльзасе линии фронта и на заводах Круппа.
Они провели десять дней в Берлине.
Все это время будущий султан и не думал касаться острых тем и с каким-то достойным другого применения упорством твердил журналистам о том, что женщины в Турции пользуются почти равными с мужчинами правами.
Кемаль слушал эти речи с откровенной насмешкой, и когда они отправились домой, он решился поговорить с принцем по душам.
– Я буду откровенен с вашим высочеством, – сказал он, – и скажу вам следующее. Вы должны потребовать по возвращении в Стамбул армию. В этом ничего удивительного нет, поскольку все принцы имеют свои армии. Получив ее, вы возьмете меня в нее начальником штаба…
Вахидеддин не ответил.
Поезд приближался к Стамбулу, и на его лице снова появилось тупое выражение.
Да и не привык он к такому напору, какой начинал оказывать на него в последние дни Кемаль.
А посему ограничился туманными обещаниями обсудить эту скользкую тему по приезде в столицу.
И все же главного Кемаль добился.
Вахидеддин проникся к нему искренней симпатией и держал его за своего преданного слугу.
Трудно сказать, почему выбор Энвера пал именно на Кемаля в этом путешествии в Германию.
Если он хотел отправить Кемаля в очередную ссылку, то мог бы найти куда более подходящее для этого место.
Если же все-таки надеялся на то, что более близкое знакомство с немцами хоть как-то подействует на Кемаля и заставит его симпатизировать им, то это было в высшей степени наивно.
Кемаль и не подумал менять своего отношения ни к самой Германии, ни к ее военным специалистам.
Но от критики правителей и бездарных немецких генералов пока воздержался: у него сильно заболели почки, и он несколько недель пролежал в кровати.
Но вполне возможно, что Кемаль просто выжидал.
Ведь именно в эти дни он получил военную награду в немецком посольстве.
Затем он первое большое интервью в доме матери на улице Акаретлер, где беседовал с Рушеном Эшрефом в небольшой комнате, заваленной военными книгами и фотографиями.
И как потом рассказывал журналист, знаменитый генерал показался ему сошедшим с полотен Рембрандта героем.
«Я, – писал он, – даже не мог представить себе, что на столь еще молодом лице может быть такая потрясающая игра мысли и чувств.
В царившем в комнате полумраке его словно выбитое из бронзы лицо казалось мне одновременно решительным и спокойным, скромным и достойным, мягким и жестким, простым и одухотворенным, настолько гармонично сходились в нем противоположности…»
Нового назначения Кемаль пока так и не получил.
Да и не до него, говоря откровенно, ему было летом 1918 года.
Боли в почках усиливались, и он попросил Энвера предоставить ему отпуск и выделить деньги на лечение в Австрии.
И тот с великой радостью отправил надоевшего ему генерала в Карлсбад.
В это время Наполеончик замышлял новую авантюру и не желал иметь рядос с собой вечный упрек в его некомпетентности.
Особенно если учесть то, что намеченный им рискованный шаг грозил серьезным конфликтом с Германией.
Впрочем, причины у него для такого шага были.
В знаменитом романе Гашека есть замечательное по своей сути определение: слабоумный идиот.
И именно таким вот слабоумным идиотом и предстал перед Кемалем шестидесятилетний принц.
Однако в купе, куда его сразу же пригласил Вахидеддин, когда они сели в поезд, Кемаль, к своему великому удивлению, увидел совсем другого человека.
От вялости и тупости во взгляде не осталось и следа, и теперь перед ним сидел совершенно нормальный и, что самое главное, живой человек.
Когда же этот человек заговорил, он поразил Кемаля еще больше.
Принц вовсе не был слабоумным идиотом и, слушая сбросившего маску Вахидеддина, Кемаль все больше убеждался в этом.
Ничего удивительного в таком преображении не было.
В течение целых шестидесяти лет этот живший во дворце и окруженный со всех сторон шпионами своего дяди Абдул-Хамида человек должен был с утра до вечера притворяться и скрывать свои мысли, дабы не возбудить подозрений.
С этой минуты почти все свое время Кемаль проводил с принцем и в его все более откровенных беседах слышал явный намек на то, что он будет совсем другим султаном, нежели его предшественники.
Правда, каким именно, Вахидеддин так и не пояснил, и Кемалю оставалось только догадываться.
Понятно, что после этих бесед он стал смотреть на сидевшего напротив него человека совсем другими глазами.
Принц продолжал фантазировать всю долгую дорогу до Берлина, а когда, утомленный речами, замолкал, Кемаль почтительно замечал, что и сам думает так же.
Всю дорогу он делал все возможное, чтобы как можно сильнее расположить к себе будущего монарха, и, на его великое счастье, ему это удалось.
В Германии их ждала поистине царская встреча, и сам кайзер Вильгельм с необычайной торжественностью принял их в своей штаб-квартире в Вад-Креузнахе.
Кайзер оказался достаточно информированным о положении дел на фронтах и, к великому удивлению Кемаля, спросил у него, не он ли командовал тем самым знаменитым Шестнадцатым корпусом на Дарданеллах.
Польщенный таким вниманием Кемаль почтительно склонил голову.
Но стоило только маршалу Людендорфу попытаться убедить принца в конечной победе германского оружия, как смиренное выражение исчезло с его лица и он во всеуслышание выразил глубокое сомнение в ни на чем не основанной убежденности маршала.
Все сделали вид, что не заметили бестактности турецкого генерала, но, когда военный комиссар Эльзаса обрушился на османское правительство из-за его политики в отношении армян и Кемаль резко оборвал его, все почувствовали легкое смущение.
– Мы приехали к вам обсуждать проблемы германской армии, – неприязненно глядя комиссару в глаза, отчеканил он, – а не ситуацию с армянским населением! И поверьте, нам есть о чем поговорить!
Но настоящий скандал разразился после обеда у кайзера, на котором Кемаль с прямотой римлянина заявил, что вынашиваемые Берлином планы есть самая настоящая химера и Германии ничто уже не поможет выиграть войну.
Впрочем, Кемаль поражал немцев не только уже хорошо известной им непредсказуемостью, но и блестящими военными познаниями, как это было на проходившей в Эльзасе линии фронта и на заводах Круппа.
Они провели десять дней в Берлине.
Все это время будущий султан и не думал касаться острых тем и с каким-то достойным другого применения упорством твердил журналистам о том, что женщины в Турции пользуются почти равными с мужчинами правами.
Кемаль слушал эти речи с откровенной насмешкой, и когда они отправились домой, он решился поговорить с принцем по душам.
– Я буду откровенен с вашим высочеством, – сказал он, – и скажу вам следующее. Вы должны потребовать по возвращении в Стамбул армию. В этом ничего удивительного нет, поскольку все принцы имеют свои армии. Получив ее, вы возьмете меня в нее начальником штаба…
Вахидеддин не ответил.
Поезд приближался к Стамбулу, и на его лице снова появилось тупое выражение.
Да и не привык он к такому напору, какой начинал оказывать на него в последние дни Кемаль.
А посему ограничился туманными обещаниями обсудить эту скользкую тему по приезде в столицу.
И все же главного Кемаль добился.
Вахидеддин проникся к нему искренней симпатией и держал его за своего преданного слугу.
Трудно сказать, почему выбор Энвера пал именно на Кемаля в этом путешествии в Германию.
Если он хотел отправить Кемаля в очередную ссылку, то мог бы найти куда более подходящее для этого место.
Если же все-таки надеялся на то, что более близкое знакомство с немцами хоть как-то подействует на Кемаля и заставит его симпатизировать им, то это было в высшей степени наивно.
Кемаль и не подумал менять своего отношения ни к самой Германии, ни к ее военным специалистам.
Но от критики правителей и бездарных немецких генералов пока воздержался: у него сильно заболели почки, и он несколько недель пролежал в кровати.
Но вполне возможно, что Кемаль просто выжидал.
Ведь именно в эти дни он получил военную награду в немецком посольстве.
Затем он первое большое интервью в доме матери на улице Акаретлер, где беседовал с Рушеном Эшрефом в небольшой комнате, заваленной военными книгами и фотографиями.
И как потом рассказывал журналист, знаменитый генерал показался ему сошедшим с полотен Рембрандта героем.
«Я, – писал он, – даже не мог представить себе, что на столь еще молодом лице может быть такая потрясающая игра мысли и чувств.
В царившем в комнате полумраке его словно выбитое из бронзы лицо казалось мне одновременно решительным и спокойным, скромным и достойным, мягким и жестким, простым и одухотворенным, настолько гармонично сходились в нем противоположности…»
Нового назначения Кемаль пока так и не получил.
Да и не до него, говоря откровенно, ему было летом 1918 года.
Боли в почках усиливались, и он попросил Энвера предоставить ему отпуск и выделить деньги на лечение в Австрии.
И тот с великой радостью отправил надоевшего ему генерала в Карлсбад.
В это время Наполеончик замышлял новую авантюру и не желал иметь рядос с собой вечный упрек в его некомпетентности.
Особенно если учесть то, что намеченный им рискованный шаг грозил серьезным конфликтом с Германией.
Впрочем, причины у него для такого шага были.