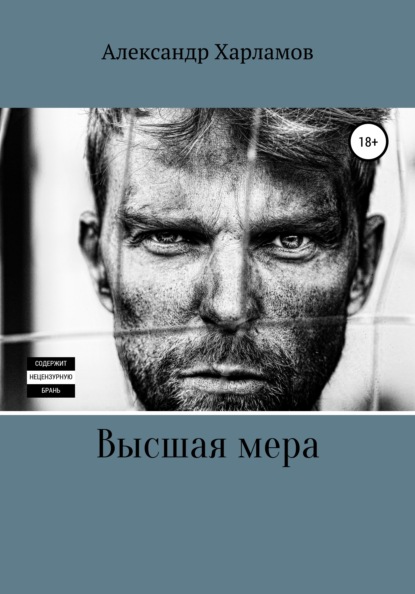По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Высшая мера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я…– Андрей бросил мстительный взгляд на Секретаря, притаившегося за спинами охранников наркома, но так ничего и не придумал, что сказать в свое оправдание. От мерзкой и довольной улыбки Нестора Петровича все перевернулось внутри.
– Это ж он, сука, предложил!– взорвался Коноваленко и ринулся вперед, особо не соображая, что творит. Сильный удар прикладом в лицо откинул в сторону его буйную голову, принеся мгновенное спасительное забытье. Крепко сложенный майор рухнул без сознания на пол своего кабинета от ловкого удара наркомовских охранников.
– Видите, товарищ Ежов!– видя, что опасность миновала, Секретарь выступил вперед, брезгливо переступив бездыханное тело майора.– Я же говорил…Он абсолютно стал неадекватен. Посадил этого Клименко за то, что пару раз тот сходил на свиданье с его супругой. Да, они там даже не целовались! Прикрыл предателя в наших рядах! Конопатова наградили, а именно он был информатором банды-налетчиков. А жену? Жену свою запереть в лечебницу? Разве так можно? Кричит арестовать немедленно! Что мне оставалось делать? – Власенко пожал плечами, виновато опустив голову. Это был его звездный час, тот момент, к которому он готовился всю свою жизнь и сыграть его надо было блестяще.
Ежов кивнул, соглашаясь с Секретарем.
– Пить надо уметь!– важно произнес он, тыкая оглушенного Коноваленко носком до блеска начищенного сапога.– Вы уж, Нестор Петрович, примите на себя обязанности майора. Уверен, вы справитесь!
– Слушаюсь, товарищ нарком!– расцвел Секретарь.– А его как?– он кивнул на Коноваленко.– Арестовать?
– Нет…Ему работу я найду! – улыбнулся хищной улыбкой Ежов.– Бабу его отпустить домой. Негоже здоровой женщине по психушкам шляться. А Казанову этого, лейтенанта молодого, в лагеря, пусть узнает каково это чужих баб по углам тискать…
Ежов брезгливо сморщился и быстрым шагом вышел из кабинета начальника управления. И никто уже не видел, как лицо Нестора Петровича озарила победная и счастливая улыбка.
ЧАСТЬ 2
ГЛАВА 1
Замок глухо щёлкнул где-то далеко, на пределе слышимости сознания. Я лишь глубже втянул колени к животу, закрыл голову руками, ожидая очередных побоев. Над головой прошелестели чьи-то легкие шаги.
– Что же ты, Сашка, наделал-то?– раздался надо мной знакомый до боли голос матери.– Что же ты натворил? Неужели, мы тебя с отцом этому учили?
В голосе матери было столько укоризны, столько боли, что я невольно поднял спрятанное в ладонях лицо. Она стояла рядом, высохшая, бледная, совсем не такая, какой я запомнил я её. Старое, вытертое, много раз заштопанное, но опрятное платье было надето на ней совсем не по погоде. Она же замерзнет здесь, в этой сырой камере…Мелькнула в голове глупая мысль. Из-под зеленого платочка, повязанного по-старушечьи узлом под подбородком, выглядывала седая прядка тонких волос. Мне так захотелось обнять мать, прижать к себе, закричать, что я не виноват, что это все Васька Конопатов, наябедничать, как в детстве, что дух захватило.
– Мамка…– слезы навернулись на глаза. Сбитыми до кровями пальцами я потянулся к ней, чтобы хотя бы прикоснуться к родному человечку, но рука вдруг ухнула в пустоту. На месте матери стоял уже старший майор Коноваленко, гневно хмурясь, своими круглыми рыбьими глазами.
– Сука ты, лейтенант Клименко! Сука! – строго говорил он.– Жену мою трахнул! Карьеру мне испортил! Сука одним словом…
– Я…
– Ты, Клименко!– согласился майор.
– Я люблю Валентину…– спохватился я.– Мы любим друг друга!
– Ха-ха-ха!– искренне рассмеялся Коноваленко.– И чего вы добились своею любовью? Ты здесь, она там…А я несчастлив! Никто не счастлив!
– Врешь!– гнев медленно закипал во мне. Я сжал кулаки, собирая в комок последние остатки сил.– Врешь, гад!
– Сам ты гад, Клименко! Гад и враг трудового народа! Таких расстрелять мало!
– Ааа…– я бросился вперед молотя воздух руками, но не устоял на ногах и рухнул на мокрый каменный пол. Сознание помутилось. Я сильно ударился головой. Камера поплыла в сером тумане. Грязный пол, потолок, стены…я не понимал чему из окружающей действительности можно верить, а что всего лишь плод моего воспаленного мозга и горячки, наступившей после постоянных побоев. – Нее-ет!
Чтобы не видеть ничего вокруг, опостылевшей камеры, серых невзрачных стен, не думать, я закрыл глаза, зажмурился, что было сил и закричал, кричал, колотя бетонный пол своей тюрьмы руками до ноющей боли, которая слегка меня отрезвила. Я, шатаясь встал, медленно направился к нарам с наброшенной на них соломой.
– Заключенный Клименко, встать лицом к стене, руки за спину!– заорали в приоткрывшуюся в двери узкую форточку, прозванную кормушкой. Виделось ли это мне? Или это было реальностью? Может я заболел? И все, что творилось со мной эти последние несколько месяцев всего лишь бред воспаленного воображения? Сон?
– Лицом к стене, сказано!
Я медленно шагнул к узкой полоске кирпичной кладки между навесным рукомойником и нарами, оперся ладонями о стену, чувствуя, как покрытый инеем бетон неприятно холодит кожу.
– Не слышу…– раздался вальяжный голос из-за двери надзирателя.
– Заключенный Клименко, статья 58 часть Б!
– Верно, животное! Верно мыслить стал…– послышался издевательский смешок вертухая.– Того глядишь, к концу срока и исправишься. Станешь, так сказать образцовым гражданином, примером для общества…
За почти три месяца в СИЗО я уже неумолимо стал привыкать к подобным подколам и издевательской процедуре, сопровождающей каждый мой вывод из камеры на допрос. Поначалу гневно реагировал на каждое ехидное замечание конвоира, нервничал, пытался что-то ему доказать, объяснить, а потом наступило отупение от постоянных побоев, отвартительных условий, сосущего чувства голода и нытья в поврежденных мышцах. Я не мог и не хотел более кому-то что-то объяснять, кому-то что-то доказывать…Единственным моим желанием на тот момент было искреннее желание умереть, чтобы одним мгновением прекратить нескончаемую череду однообразных, как под копирку сложенных дней, которые я отмечал на стене в самом нижнем углу камеры, чтобы не видно было от входной двери, кусочком почти стертого кирпича.
– Стоять! Не оборачиваться!– тычок в поясницу прикладом ружья стал почти неощутим, да и ударил конвойный скорее для острастки, чем, действительно, причинить настоящую боль.– Что тут у нас…
Тяжелые шаги раздались совсем близко, обошли меня полукругом. Направляясь к нарам. Надзиратель лениво поворошшил ногой солому, заглянул под грубо сбитые доски.
– Запрещенных предметов нет, Клименко…– сделал вывод охранник с явным сожалением. Да и откуда бы им было здесь появиться. Посетителей ко мне не пускали, передач не передавали, а в узком пенале-одиночке, где из мебели лишь нары и рукомойник, да ведро в глу для справления нужды, затруднительно было бы что-то спрятать, однако, конвоир с упрямым упорством, доходящим до идиотского буквоедства выполнял инструкцию и каждое утро осматривал мою одиночку.
– Вот, что вы за люди, политические…Нет в вас зэковской романтики! Вот, где можно разгуляться. Бывает заходишь в камеру, а там и бритвы, и заточки из ложек, и карты…А тут…
– Виноват, гражданин начальник! Исправлюсь!– удар по почкам оглушил так, что в ушах зазвенело. Спину скрючило от боли, и я, как подкошенный, рухнул на колени, скрипнув зубами.
– Конечно исправишься!– радостно захихикал конвоир.– У нас не такие исправлялись…
В глазах потемнело. Я с трудом пытался восстановить сбитое дыхание и встать, но сил уже не было. Только боль…Боль, ставшая для меня уже привычной, словно неотделимой от меня частью.
– Ладно…– вздохнул надзиратель, поправляя сползшую с плеча винтовку.– Повеселилилсь, голубь мой, и будя…Товарищ следователь тебя ждет! Бумажки какие-то перед подписать. Сказал привести немедля…
Ах, ты сволочь…Подумал я. Измываешься ты надо мной от души, но только не по приказу высшего руководства, а от собственного садисткого начала. Нравится тебя людей ломать, словно сухую тростинку в пальцах, вот и ходишь сюда, как на работу каждое утро, да тычешь мне в спину своим прикладом, а где-то внутри у тебя все переворачивается от счастья, испытывая мелкий и почти незаметный никому вокруг оргазм от осознания, что вот ты какой начальник, вот какой сильный… Сука!
Я сплюнул вязкую слюну на пол, утерев хлюпающий от хронического насморка нос рукавом затертого грязного и вонючего пиджака. Протянул смиренно руки назад, ожидая пока на запястьях не щелкнет холодная сталь наручников. Отпускать без них по коридору меня побаивались, хотя я и сам был неуверен, что в своем нынешнем состоянии буду способен совершить нечто геройское.
Немного повозившись у меня за спиной, конвоир справился с оковами и слегка подтолкнул меня к двери камеры. Каждый раз такой своеобразный «выход в свет» приносил мне массу приятных эмоций. Я мог видеть нечто другое кроме опостылевших, изученных до последнего пятнышка четырех стен, в которые меня замуровали совершенно по-идиотски. От нахлынувших воспоминаний меня перекосило. А сколько было мечтаний, сколько несбывшихся надежд? Где сейчас Валя? Где мать? Что с ней? Какой я к черту враг народа? Расхититель социалистической собственности? Где доказательства? Все эти вопросы я пытался задавать капитану Волкову – следователю по-моему делу в первый месяц нескончаемых допросов, на которых меня пытались ломать, уговаривать, жалеть, а потом снова ломать. Больше я их уже не задавал…Оставался лишь один, вполне справедливый, но никому не нужный вопрос «зачем»? На него, пожалуй, даже сам капитан, ставший за эти несколько месяцев майором, не мог ответить…Приказано и все тут!
Я оглянулся. Конвоир Степан важно шествовал позади, держа на всякий случай оружие наготове. Уже прознавший, на что я способен.
Тогда мы тоже шли так же, кажется, даже на этом самом повороте перед лестницей…Я сумел сбиться с шага, сократив резко дистанцию между мной и зазевавшимся надзирателем. Степан подался вперед, и ствол ружья скользнул по моей пояснице, давая мне возможности уйти с линии огня и от души вмазать надзирателю садисту по его мужским атрибутам. Тот взвыл, выронил оружие, но со связанными руками, из охраняемой тюрьмы не сбежишь, а потому я терпеливо стал ждать, когда среагирует дежурная смена, в душе радуясь, что все же сумел отомстить гаду, пусть и мелко…Меня избили так, что я не мог встать с нар, временно отменили допросы, надеясь, что я все же сыграю в ящик, избавив всех от множества лишних хлопот, но я выжил, упрямо, назло, а Степан с тех пор всегда был бдителен и не давал мне возможности сделать бросок.
– Что, тварь, боишься?– зло прошипел он мне над ухом, дыша куда-то в спину.– А вдруг я тебя расстреливать веду?
Если быть честным, то в душе что-то дрогнуло. Где-то на подсознании вспомнилась мать, Валечка…Но боль от постоянных побоев, сносимых мной за время заключения, некое оттупление от всего происходящего вокруг были настолько сильными, что слова конвоира я воспринял не то чтобы равнодушно, но с некоторым облегчением. Наконец-то…Я так устал, что каждой клеточкой своего измученного организма жаждал этого, а идущему позади меня Степану было невдомек, что бывают такие ситуации, когда страх перед смертью, намного ниже, чем само по себе желание жить. Ему этого было не объяснить, не понять…Только сосущая пустота внутри, будто вынули все нутро, оставив лишь только глухую боль.
– Стреляй!– кивнул я, не оборачиваясь, двигаясь по знакомому, выученному до кадой трещинке в стене коридору.– Стреляй!
– Иди уже,– недовольно буркнул тот, подталкивая меня к полуоткрытой двери.
У самого порога Степан меня обогнал. Первым вошел в кабинет, докладывая преувеличенно бодрым голосом.
– Товарищ майор, задержанный Клименко по вашему приказанию прибыл!
Из-за тонкой перегородки послышался знакомый до боли голос Волкова. Выбитые зубы заныли, будто предчувствуя, что это не конец мучений, а только их начало. Передо мной предстал все тот же кабинет, больше напоминающий своим аскетизмом монашескую келью. Узкий пенал с решетками на маленьком окне, построенном почти под самым потолком, сквозь которое еле-еле пробивался солнечный свет, длинный стол, заботливо застеленный зеленой скатертью, гнусная лампа дневного света под зеленым абажуром, а возле нее человек с кипой бумаг на столе, нетерпеливо постукивающий карандашом по дубовой столешнице. Табурет, прикрученный к полу, вмонтированный в него намертво, располагался напротив, чуть поодаль от следователя, именно на него меня усадил Степан, мгновенно сипарившийся за дверью.