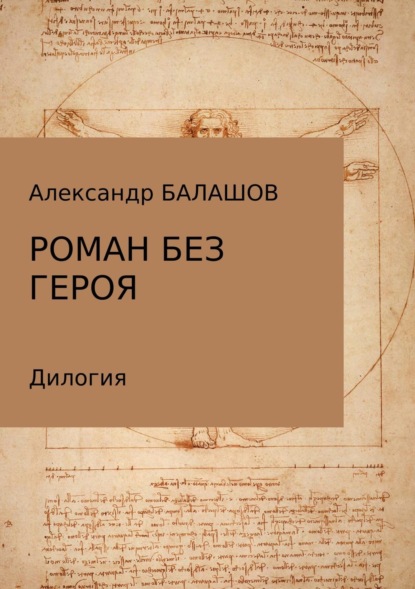По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это почему? – обиделся я и отодвинул от себя стакан.
Альтшуллер покачал головой:
– Да потому, что даже круглый троечник на истфаке, что история не имеет сослагательного наклонения. «Было, было, было – да прошло…». Вот эпиграф к жизни настоящего историка. Выводы будут делать политики, под дудку которых пляшут авторы учебников по истории.
Конечно, он прав – Пашка Шулер! Прав, как всегда, зараза… Кажется, только он при эпидемии нынешней социальной истерии избежал «синдрома Карагодина». Или принимает противоядие в виде вот этого дешевенького винца.
Я выпил один, не чокаясь с Пашкой.
– Ты что-то долгенько на первой мировой застрял… Основные события в «Записках мёртвого пса» дальше…
– Не дает Чертенок сосредоточиться, – сказал я. – Степка из области вызвал какую-то ревизию КРУ во главе с бывшим начальником УБЭПа. Ковыряют, как я расходовал редакционный бензин за последние пять лет… Надеются, что торговал ГСМ налево и направо. Про бракованную спонсорскую бумагу вспомнили. Копают землекопы…
– А ты зря смеешься, – посерьезнел Фокич. – Наш глава всему голова. Сажать собираются.
– Как это – сажать?
– Да просто. Напишут неподкупные ревизоры то, что надо Чертенку, свидетелей найдут. Из твоей же конторы. Свидетелей много находится, когда их по-настоящему ищут. Потом тихой сапой дело в суд передадут…
– Постой… Средневековье какое-то.
– История человечества идет, мой друг, по кругу, а не по спирали. Сейчас мы в круге, параллельном времени, когда инквизиция подменяла и нравственный, и юридический законы.
– А чего же они от меня хотят?.. – печально глядя на почти пустую бутылку, пессимистически спросил я сводного брата своего.
– Чего, спроси, хочет Степан Григорьевич… – он долил остатки крепленной «Анапы» себе в стакан.– Да ты же, чего… Покорности. Не лояльности – ты же не Евтушенко и даже не Дарья Донцова, – а элементарной рабской покорности. Смирения крепостного холопа. Вывалившегося из ряда гордеца. Ух, как они, брат, ненавидят гордых людей…
Доктор Шуля выпил магазинную бурду залпом, как противную, но необходимую для выздоровления микстуру.
– Я всегда говорил, что гордыня – наказуема, – пессимистически оценил я содержание, точнее – полное его отсутствие – в винной бутылке.
– Да не гордыня это, в том-то и дело, что не гордыня. Гордость для них звучит так же, как непокорность. Как Правда. Россия задохнется от удушья бездуховности, захлебнется меркантильностью в предложенном нам Западом капитализме, Европейском или любом другом союзе, в ВТО, КБО, у черта или ангела за пазухой, – если не будет трех главных ориентиров: Любви, Добра и Правды. Нет этих векторов движения – Россия мертва. Ни голод, ни войны, ни сверхсовременное оружие не в силах разрушить Русь-матушку – не родился еще такой витязь в тигриной шкуре… А вот убери с пути нашего этих трех сестер – и всё! И нет России. Нет русского человека. И никакие государственные подачки, премии за второго ребенка не спасут нацию от вымирания. Тогда им и наши слободские земли выкупать не придется. Бери – не хочу. Мертвые не взыщут… Понимаешь?
– Я одно понимаю: прады боялись и боятся всегда, если правда не на стороне власти… Я ведь помню, Паша, как диссидентов усмиряли… Но нынче диссидентов нет.
– Времена, конечно, меняются… Но вместе с ними меняются только методы, но не цель. Методы, разумеется, не те, что при «дорогом Леониде Ильиче»… В мордовские лагеря тебя не погонят. Тебя посадят, как уголоника. И не за гордыню, а все то же банальное правдоискательство. Сладок этот плод во все времена. Потому что – запретен. Степан потоньше, поумнее своих знаменитых родственников будет. Пришьют тебе преступную халатность, растрату или чего там – и в кандалы. И на каторгу. Да на уголовную, не на политическую, где «университеты» проходят… Глядишь – и склонилась в поясном поклоне еще одна русская бошка правдолюбца. А не склонилась, так отскочит. Нет головы – нет проблемы.
– А суд, наш самый гуманный суд в мире? А правоохранительные органы? Разговоры о гражданском обществе, правовом государстве?..
– Господи, Иосиф… Все от человека, все – в человеке. Сейчас ведь не политическая, а , так сказать, нравственная инквизиция. О, времена, о нравы… Кто осудит нравственную позицию сильных мира сего? Не родился в России еще такой прокуратор Пилат.
И тут я понял, что все эти дни только неясно мерцало серди последних событий, случившихся со мной. Паша танцевал от печки и с необычайной полнотой обозначил в своем монологе те мотивы, которые меня и привели к переосмыслению жизни. Я-то, дурак, думал, что своими статьями, позицией, борьбой, наконец, я приближаю новый день молодой России, что народ мой многострадальный и талантливый от природы, будет жить достойно хотя бы в ХХI веке… И наконец – прозрел, как щенок в сенном сарае. Увидел, что, заступаясь за попранную Правду, я все-таки еду к русской печке!.. Я возвращаюсь к ней. И на душе становилось теплее, впервые за всю эту лютую зиму.
– Они хотят, чтобы я не писал правды. Потому что истины, мол, не знает никто… А разрешение – знать или не знать людям правду – выдают исключительно главы, избранные «самым демократическим в мире путем».
– Оригинал записок моего отца «они» хотят… Вот что. Чертенок знает, что первая и самая интересная во всех отношениях для них часть бурдовой тетради – у тебя, а вторая часть – у меня. И теперь это не просто записки сумасшедшего. Это, мой дорогой историк, – документ времени. Свидетельство против карагодиных. Понял, любитель интеллектуальной русской рулетки?
Доктор достал из кармана сигареты, закурил, усевшись на край письменного стола.
– Он ведь и мне условие поставил.
– Какое? – думая о своем, грустно спросил я.
– Говорит, хочешь заслуженного рвача России получить к пенсии – отдай копию «Записок»… Тогда точно получишь. Он, оказывается, в областной комитет по здравоохранению должен характеристику-рекомендацию мне писать… В медицине – ни рылом, ни ухом, а характеристику на заслуженного рвача подает он.
Я прикурил от его сигареты.
– А мне что делать прикажите, доктор?
– «Каждый выбирает по себе: женщину, коня, вино, дорогу… Дьяволу служить или же Богу, каждый выбирает по себе», – проговорил он – Ну, я пошел, Захар. «Анапы» у тебя больше нет. Греть обледеневшую в мерзости душу больше нечем…
– Зачем приходил? – спросил я, провожая друга.
Он грустно улыбнулся:
– Я же сказал: душу у писательского очага погреть…
У порога он обернулся.
– Да, сегодня по календарю международный день поддержки жертв преступлений. Заодно и отметили праздник.
Глава 26
ПОЕТ ЕЩЕ РОССИЯ
Продолжение воспоминаний Иосифа Захарова
Он ушел, а мне нестерпимо захотелось надраться. Да так, чтобы не помнить, как допивал последний стакан. Бывали времена трудней, но, кажется, и впрямь, не было подлей.
Говорят, нет худа без добра. Правда, добра было с гулькин нос. Но теперь я знал, ЧЕГО хочет от меня власть. Молчания. Покорного молчания. И никаких эксгумаций! Не нужно, мол, ворошить прошлое! Не позволим к святыням нашим даже прикасаться, даже дышать на них всяким там эксредакторам!
Фока Лукич не был сумасшедшим, требуя эксгумации могил Григория Петровича и Петра Ефимовича Карагодиных. Годы, сожженные в сумасшедшем доме, – это была его плата за правду.
Я перебрался на кухню, размышляя о «синдроме Карагодина», наследственных или приобретенных его корнях, обшарил все свои «похоронные места, надеясь обнаружить счастливо забытую мною чекушку. Сухо было во рту. Сухо было и в заповедных местах.
Как хорошо, что врачи под смерти без покаяния все-таки запретили мне пить водку. И как невыносимо стало жить после этого запрета… « Стакан сухого красного вина, Иосиф Климович!… Это теперь ваша программа-максимум!» – про себя передразнил я Гиппократа, главного врача Краснослободской ЦРБ. Нет, правильно говорит Пашка: для русского человека сухое вино, что сухое дерьмо. Но ему, относительно здоровому человеку, не понять моих «послевкусий». Он, по существу ставший моим сводным братом, так и не стал романтиком. Он – прирожденный циник. А циникам никакие синдромы, даже карагодинские, не страшны. Отец его умер, протянув после психушки немного. Но – в своей постели. Не расстрелян. Не реприссирован. Не страдалец, не борец, не боец, не герой… Сплошное отрицание. О какой романтике тут вообще можно говорить?
В своей холодной холостяцкой постели умрет, наверное, и Пашка. И он – сплошное «не». Нет, не герой, не боец и не борец.
А у меня, что – сплошное «да»? Но ведь утвердительно можно отвечать на подлые вопросы. И это будет подлое «да». Не это ли «да», которое своей готовностью или молчаливое согласие, что воспринимается тоже как «да», в конце концов и погубит то, о чем с такой неизбывной любовью пел Есенин?
Я включил радио. Хриплый голос с неизбывной русской тоской выводил:
Толька-а-а рюмка водки на столе-е-е…
«Шапки долой! – подумалось мне – Россия еще поет. Значит, не всё ещё потеряно».
Я слышал, как, скрипнув, отворилась входная дверь – пришла Моргуша. Молча положила на стол историческую по нынешним временам редкость. Раритет просто – письмо от младшего сына Сеньки.