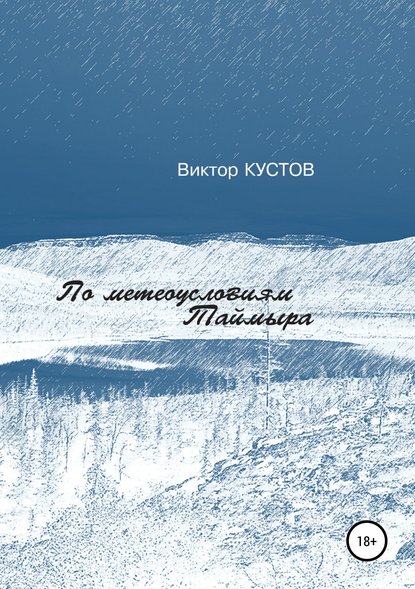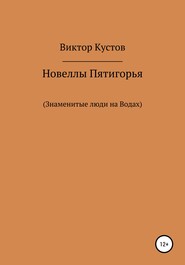По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
По метеоусловиям Таймыра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы уже и-дём тру-дить-ся, – продекламировал Сычёв и, гремя высокими каблуками, вернулся к своему столу.
– Восемнадцать, – вздохнула Гурская. – В восемнадцать я безбожно влюбилась. Он был будущим лётчиком, высоким до невозможности… – Она провела рукой над своей головой.
– Бросил,– предположил Сычёв.
– Меня?.. – Она окинула Сычёва презрительным взглядом.– Он оказался примитивнее поршневого самолёта.
– Наташенька, если не трудно, завари, пожалуйста, чаю, – попросил Гребнев, с трудом сдерживая неожиданную дрожь.
– Через пятнадцать минут, – непререкаемо произнёс Сидорчик. – Не отвлекайтесь, перерыв через пятнадцать минут.
Гурская пожала плечами, покрутила пальцем у виска, прыснула, ожидающе глядя на Гребнева, но тот не поддержал, склонился над чертежом.
Установившуюся тишину прерывало только сухое потрескивание графитных стержней и покашливание и шмыгание красноносого Дурасова.
Гребнев нарисовал круг.
Вспомнил жаркую комнатку Валерии, пахнущую чуть-чуть ладаном, чуть-чуть ромашкой, такую же странную, какой странной была их встреча прошлой весной…
Он пошёл тогда в последний раз на зимнюю рыбалку – сбежал от домашних забот за город, поругавшись со Светланой. Выбрал на уже подтаявшем льду просверленную кем-то лунку, соблазнившись замёрзшими отпечатками рыбьих тушек, стал ждать, забывая томительное молчание Светланы, медленно входя в этот мир белоснежной тишины и неподвижности, наблюдая за лыжниками, догоняющими зиму на пологом склоне берега. Отпечатки обманули, поклёвок не было, и он решил пройти дальше от берега. Заскользил по прогибающемуся льду, настороженно прислушиваясь, но не дошёл до намеченного места: лёд под ногами вдруг развёрзся, пугаясь, он стал подминать под себя обламывающуюся синюю кромку, крепко сжимая ящик со снастями в одной, а бур в другой руке, ещё не веря в произошедшее, надеясь ощутить твердь, но тверди не было, а шуба тяжелела с каждым мгновением. Он устал уже бороться с её тяжестью, отбросил бур и ящик, ушедший под воду неторопливо и безмолвно, когда в плечо ему ткнулась ярко-красная лыжа. Не чувствуя рук, он каким-то чудом всё-таки сцепил их на этой полосе и замер, видя белое лицо с заиндевевшими ресницами, коричневый свитер и длинные худые красные руки…
Наконец, кромка перестала ломаться и он пополз по льду, оставляя тёмный мокрый след, пока не услышал усталое, с шумными выдохами:
– Вставайте, теперь можно… И бегом, бегом!
Он встал, растерянно оглядываясь, чувствуя адский холод, тяжесть, сковывающую тело.
– Бегом!
И он побежал, слыша за собой громкое дыхание, не зная куда и зачем, не замечая удивлённых взглядов лыжников, катившихся по склону вниз. Бежал, проваливаясь в снегу, задевая звонкой шубой ветви деревьев и подчиняясь подгоняющему голосу, пока не упёрся в бревенчатую избушку, не ввалился в низенькую дверь, не рухнул на земляной пол, пахнущий прелыми листьями и смолой.
– Раздевайтесь, быстро! – приказали ему, и в металлической печке забились робкие языки, пожирая потрескивающую бересту…
Он стал выбираться из панциря шубы, кольчуги свитера, охая и ахая, наконец остался в тёплом белье, не зная, что делать дальше, но тут маленькие красные руки потянули с него майку, кальсоны и он остался в чём мать родила, но почему-то не устыдился этого. А эти уверенные руки уже растирали, разминали его тело, становились всё горячее и горячее, наконец острые иголки вонзились в Гребнева, обожгли его, заставив прикусить губу…
– Теперь к печке, грейтесь…
Он послушно шагнул к теплу, не в силах справиться с навалившейся на него дрожью, громко стуча зубами и пытаясь как-нибудь пошутить по этому поводу, но губы не слушались, и он только выстукал:
– Спа-си-бо…
А руки уже крутили в жгут его кальсоны, потом трясли их, переворачивали на шипящей печке.
– Надевайте, – услышал он, поднял глаза и увидел протянутую длинную майку и белое тело, черные овалы лифчика, родинки, густо разметанные на животе.
– Быстрее, а то мне холодно.
Он послушно натянул майку, треснувшую по швам, потом влажные кальсоны и только тогда разглядел свою спасительницу…
– Перерыв, – сказал Сидорчик. Потёр ладони. – Вот теперь, Наташенька, давайте чай… Евгений, вы не закончили?
– Почти,– Гребнев поднялся. – Два штриха – и дело в шляпе.
– Давайте, заканчивайте…
Сидорчик пробежал между рядами кульманов, похвалил Светлану Фёдоровну, желчно ткнул пальцем в чертёж Сычёва, отмечая ошибку, исчез за дверью.
– Змей Горыныч,– сказал Сычёв. – Сказочный персонаж: двуглаз…
– Если не уважаете начальство, Анатолий Михайлович, уважьте возраст, – защитила Сидорчика Светлана Фёдоровна.
– Он хороший. – Гурская опустила в банку кипятильник. – Кто сегодня бежит за пирожными?.. Толя, твоя очередь.
– Давайте, я схожу, – вызвался Гребнев. – Люблю лезть без очереди.
– Уступаем, Женечка, валяйте…
Дурасов громко высморкался, осторожно вытер распухший нос.
– Господи, когда это кончится, – тоскливо произнёс он, вытаскивая из пачки сигарету. – Даже запаха дыма не чувствую.
– Так я пошёл, – сказал Гребнев.
Он вышел на улицу, поёживаясь, пробежал квартал до ближайшего кафетерия, в ванильном тепле отдышался, потёр замёрзшие уши, обогнул очередь.
– Добрый день, тёть Валь.
Полная продавщица в накрахмаленном кокошнике протянула ему коробку с пирожными, взяла деньги и, не пересчитывая, бросила их в кассу.
– Опять тебе, Евгений, жребий выпал?
– Жребий, – кивнул Гребнев. – Судьба. Безжалостный рок. – Помялся. Не хотелось так быстро возвращаться в контору. – Тёть Валь, налейте-ка мне стаканчик томатного…
Встал за столик напротив окна.
Теперь он видел крышу высотного дома и четыре верхних ряда окон, остальные закрывало роскошное здание конца сороковых годов со множеством архитектурных излишеств, и он опять не смог сосчитать этажи…
Он пришёл к Валерии накануне первомайских праздников, с коньяком, коробкой конфет и ранними ландышами, уже позабывший пережитый страх своего ледяного купания, пришёл, чувствуя какую-то потребность отблагодарить, отдать долг, чтобы раз и навсегда забыть о своей спасительнице. Он хотел взять с собой и жену, но Светлана сопровождала важных дельцов из Западной Германии, у них на этот вечер была назначена встреча, без переводчицы не могли обойтись, и он пошёл один.
С трудом нашёл дом, перед дверью сунул обратно в карман записку с адресом, надавил на кнопку.
Открыла высокая старуха с мосластыми босыми ногами.
– Леру?.. Проходь, голуб, щас накупается…
Старуха пошлёпала по паркету в комнату, оставив Гребнева, растерянно замершего в прихожей. Он потоптался, наконец решительно положил подарки на пол, снял туфли, потом, помедлив, носки и босиком пошёл за ней.
В комнате, заставленной старой мебелью, было сумеречно.