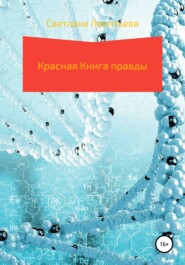По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Молвинец
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
эти скважины туго подключены слева.
Одиссей точно также смолил свою лодку,
Пенелопа ткала покрывало умело.
Сколько лет? И столетий? Эпох? Двадцать, сорок?
Сколько звёзд полумёртвых втекло в мои льдины?
Вот Чернобыль, вот Сирия, войны, Эбола.
Сколько их не руби – вновь растут пуповины!
Я бы выжила, может.
Да, точно! Но снова
наполняюсь, расту перламутровым миром.
Вы глядите в глаза, вопрошая: «Здорова ль?»
Но в ответ подрываюсь на поле я минном!
***
На высоком троне восседатель:
рядом гордость, похвальба, пиар,
хвост собачий вы, а не писатель.
Вы не бились в небо, как звонарь!
Вы – не Данко, лопнувшее сердце
с вырванным кусочком миокард
да под ноги – бейся, плавься, лейся –
всей толпе, весь под ноги Царьград!
В«Милость к павшим», к тем, кто оступился,
сквозь инферно Данте, сквозь себя,
в млечный ход я встраивалась, в листья,
размозжила космос, как заря!
Долго, долго детушки бродили,
ангелы им бусики плели…
Встраивалась в кольца, в тени, спилы,
чтобы оторваться от земли.
Всех жалей – униженных, забытых.
Всех оправдывай и на колени встань!
Кровь, как дождь свою пусти сквозь сито,
сто дождей скрови! Изрежь гортань
о ножи, о стрелы, пули-звуки.
Всё тебе! Насквозь! И зверем вой!
Мой чугунный космос вырван! Ну-ка
встань со мной!
В трёх моих могилах полежи-ка!
Ангелочкам бусики сбери!
Встань за друга – русского, калмыка,
за грузина
встань на раз, два, три!
И блуднице той, что на экране,
и продажным выхаркни в лицо
не за почести и не за мани-мани,
за народ святой своё словцо!
Встань за Русь, когда зовёт создатель.
А иначе, коль не вступишь в бой,
хвост собачий ты, а не писатель.
Не о чем мне говорить с тобой!