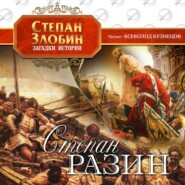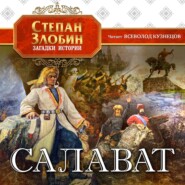По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Меня-то пустишь? – усмехнулся Михайла.
– Тебя-то завсе, хоть без сполоха, и то! – поклонился стрелецкий старшина.
Они въехали в город.
У первого перекрестка кузнец велел остановиться.
– Слышь, Иван, иной бы рожу тебе побил, а я добром сказываю: больше не лезь в мой дом, да и в кузне народ без тебя найдется… В зятья не годишься. Аленка не кой-чья дочь!.. – сказал кузнец. – Слезай.
Он взял у Иванки из руки вожжи.
– Всегороднему старосте зятя из больших надобно аль из приказных?! – с насмешкой воскликнул Иванка.
– Не из холопов. Тебя уж не стану спрошать! – разозлясь, оборвал Михайла. – Да слышь, Иван, вся черная хитрость ваша теперь на виду – не укроешь!..
– Какая хитрость?..
– Семейства вашего хитрость! Весь род ваш таков: удачи, вишь, только нету!.. Вишь, прилез девку смущать, – мол, падет на нее позор, и некуда будет деваться, отдаст отец за меня, за холопа… Как голого вижу тебя – в чем мать родила!..
Иванка слушал, остолбенев. Слова не шли с его языка.
– Бабка кусошничать ходила – я посылал Аленку: «Срамно, мол, Иванка все ж в кузне работает, снеси им поесть» – носила! – со злостью резал Михайла. – За то ее бабка к лапам прибрать надумала – замуж за внучка… А сам ты что? Куда лезешь? Захара хотел поклепать с дощана, с Волконским путал; утре бабка опять на Захарку… Я тебя приютил, пригрел, за то ты мне же недоброе ладишь, а у себя дома брата-лазутчика укрываешь. Тебя бы в тюрьму за все разом…
Кузнец хлестнул лошадь вожжами и быстро помчался, оставив Иванку на перекрестке…
Град обвинений, обрушившихся на Иванку, кружил ему голову, мутил разум. Спазма сжимала грудь. Хотелось кричать во все горло, чтоб было легче…
Иванка пришел к себе, не сказав ни слова старухе. В темноте избы он направился прямо к лавке и лег.
Из всех обвинений, высказанных кузнецом, его не задело так сильно ни одно, направленное лично против него, как заявление Мошницына, что Истома в Москве продается боярам.
«Бачку, бачку, они за что же, проклятые, клеплют! Чем он Захарке стал на пути? И Томила Иваныч молчит, будто его не касаемо!..» – размышлял про себя Иванка.
Разыскать самого Первушку, отплатить ему за извет, проданный Ваське Собакину, за то, что он боярский лазутчик, за бабкину голову, которую он чуть не разбил, за клевету на отца, за позор, несправедливо покрывший теперь всю их семью… Да где найдешь его! Небось напакостил и ускочил к боярам в Новгород или куда…
Иванку вдруг озарило: Ульянка Фадеев знает, зачем прилезал Первушка.
– Федюнька, ты сам отдавал Ульянке письмо? – разбудив братишку, спросил Иванка.
– Сам отдал… Ды, Вань, ды я вечером бегал узнать. Там земский обыск был. Хотели Ульянку к расспросу взять во Всегороднюю избу, а он убежал! По городу всюду искали – и нет. Будто в воду канул… Должно, к боярам убег, окаянный! – шептал Федюнька.
Иванка не спал. Мысль о том, что все, сказанное Мошницыным, со стороны покажется людям правдой, мучила его невозможностью оправдаться. Вокруг не было ни единого друга. Иванка больше не верил ни в дружбу Гаврилы, ни в правду Томилы Слепого, которого чтил и уважал до сих пор, как мудреца, ни в верность Кузи, ни в товарищество Якуни.
Иванка слышал, как пропели петухи… Забрезжил рассвет… С улицы звякнула железная щеколда калитки…
Старуха вошла из сеней в сторожку.
– Захарка был ночью тогда у Первушки! – воскликнула она. – Кабы не он – откуда бы Захарка ведал, что Первой говорил, будто рубль Истома послал? Мы ведь двое с Первушкой были!
– Брось, бабка, полно! – остановил Иванка. – Хоть ты обкричись, что Захар, – и никто не поверит. Нет правды во Пскове!.. Михайла, Гаврила, Томила Слепой – все смотрят, чтоб для себя. Все лжа!.. И у Томилы нет правды, чтоб сдох он, подьячья крыса!
С печи, где спали вместе с бабкой Федюнька и Груня, послышался сдержанный девичий плач.
– Груньк, ты что?! – воскликнул разбуженный Федя.
– Ништо! Отвяжись! – огрызнулась она и умолкла.
7
Усталость взяла свое, и под утро Иванка уснул. Он проснулся, когда сполох собирал горожан снова к Рыбницкой башне.
Иванка решил, что больше ему нет дела до города. Остановясь на углу, купил у торговки пяток раскисших соленых огурцов, с независимым видом поплевывая вокруг кожуру и обливаясь рассолом, он подошел к площади.
– Господа дворяне, посадские, стрельцы, пушкари и вы, всяких званий меньшой люд, – сказал с дощана выборный дворянин Иван Чиркин. – Новгородцы послов к нам прислали – дворян и посадских, а с ними посол с царским словом к вам, псковитяне. Хотите ли слушать?
– Пусть говорят!
– Говорите, послы! – закричали вокруг дощана.
Десяток чужих людей – дворян и посадских – вырос на дощанах. Глава посланцев – дворянин Сонин вышел вперед.
– Господа псковитяне! – сказал он. – Добро ли творите? Крест целовали великому государю, а ныне что?! Ныне на русских братьев готовы с ружьем, как татаре… Где же крест на вас?! Вам бы в город впустить добром воеводу Хованского, как мы, новгородцы, впустили. Вам бы от дурна отстать, и вас государь пожалует по вашему челобитью… А коль вы в мятеже, то не пристало ему челобитья вашего слушать… Войско большое на вас идет. Чего доброго – город ваш пушками разобьют, пожгут!.. Чьей ради корысти?! Ради бездельных людей, кои шкуры свои от праведна гнева спасают…
Дворянин говорил, а народ молча слушал. Слова боярского посланца о войске многих смутили.
– Вам вины бы свои принести государю! – кричал с дощана дворянин на всю площадь.
– Мы бы рады – заводчики, вишь, не велят!.. – крикнул рядом с Иванкой старик посадский.
– Все бы рады! Заводчики не дают! – поддержали сзади.
– А вы бы заводчиков повязали! – выкрикнул дворянин с дощана. – Вон сколько народу троих крикунов устрашилась?! Связали бы да выдали их государю!.. Гаврилку Демидова да Козу.
– Не смеем! – крикнули из толпы.
– Вы нам пособите!..
– Спасибо скажем!..
Это были отдельные выкрики, может быть не более десятка человек, но, раздавшиеся с разных сторон, они посеяли в толпе смятение. Город не видел главных своих вождей, не слышал их голоса, и какая-то странная робость объяла сердца.
– Начните вязать – пособим! – откликнулся дворянин.
Иванка протолкался поближе и стоял у самого дощана. Он не видел в толпе земских выборных, ни Гаврилы, ни Прохора Козы, ни Томилы Слепого. Захарка, Мошницын, Чиркин, Устинов, Михайла Леванисов, Копытков стояли у дощана, вполголоса споря о чем-то между собой.
«Сдались сами изменники! – подумал Иванка. – Чего же Гаврила с Томилой глядят?! Где Коза?!» Он забыл, что дела городские – уже не его дела.
– Заткнись ты, собака! – не выдержав, крикнул Иванка, и мягкий большой огурец, пущенный меткой рукой, разлетелся вдрызг, ударясь в лицо дворянина…
– Тебя-то завсе, хоть без сполоха, и то! – поклонился стрелецкий старшина.
Они въехали в город.
У первого перекрестка кузнец велел остановиться.
– Слышь, Иван, иной бы рожу тебе побил, а я добром сказываю: больше не лезь в мой дом, да и в кузне народ без тебя найдется… В зятья не годишься. Аленка не кой-чья дочь!.. – сказал кузнец. – Слезай.
Он взял у Иванки из руки вожжи.
– Всегороднему старосте зятя из больших надобно аль из приказных?! – с насмешкой воскликнул Иванка.
– Не из холопов. Тебя уж не стану спрошать! – разозлясь, оборвал Михайла. – Да слышь, Иван, вся черная хитрость ваша теперь на виду – не укроешь!..
– Какая хитрость?..
– Семейства вашего хитрость! Весь род ваш таков: удачи, вишь, только нету!.. Вишь, прилез девку смущать, – мол, падет на нее позор, и некуда будет деваться, отдаст отец за меня, за холопа… Как голого вижу тебя – в чем мать родила!..
Иванка слушал, остолбенев. Слова не шли с его языка.
– Бабка кусошничать ходила – я посылал Аленку: «Срамно, мол, Иванка все ж в кузне работает, снеси им поесть» – носила! – со злостью резал Михайла. – За то ее бабка к лапам прибрать надумала – замуж за внучка… А сам ты что? Куда лезешь? Захара хотел поклепать с дощана, с Волконским путал; утре бабка опять на Захарку… Я тебя приютил, пригрел, за то ты мне же недоброе ладишь, а у себя дома брата-лазутчика укрываешь. Тебя бы в тюрьму за все разом…
Кузнец хлестнул лошадь вожжами и быстро помчался, оставив Иванку на перекрестке…
Град обвинений, обрушившихся на Иванку, кружил ему голову, мутил разум. Спазма сжимала грудь. Хотелось кричать во все горло, чтоб было легче…
Иванка пришел к себе, не сказав ни слова старухе. В темноте избы он направился прямо к лавке и лег.
Из всех обвинений, высказанных кузнецом, его не задело так сильно ни одно, направленное лично против него, как заявление Мошницына, что Истома в Москве продается боярам.
«Бачку, бачку, они за что же, проклятые, клеплют! Чем он Захарке стал на пути? И Томила Иваныч молчит, будто его не касаемо!..» – размышлял про себя Иванка.
Разыскать самого Первушку, отплатить ему за извет, проданный Ваське Собакину, за то, что он боярский лазутчик, за бабкину голову, которую он чуть не разбил, за клевету на отца, за позор, несправедливо покрывший теперь всю их семью… Да где найдешь его! Небось напакостил и ускочил к боярам в Новгород или куда…
Иванку вдруг озарило: Ульянка Фадеев знает, зачем прилезал Первушка.
– Федюнька, ты сам отдавал Ульянке письмо? – разбудив братишку, спросил Иванка.
– Сам отдал… Ды, Вань, ды я вечером бегал узнать. Там земский обыск был. Хотели Ульянку к расспросу взять во Всегороднюю избу, а он убежал! По городу всюду искали – и нет. Будто в воду канул… Должно, к боярам убег, окаянный! – шептал Федюнька.
Иванка не спал. Мысль о том, что все, сказанное Мошницыным, со стороны покажется людям правдой, мучила его невозможностью оправдаться. Вокруг не было ни единого друга. Иванка больше не верил ни в дружбу Гаврилы, ни в правду Томилы Слепого, которого чтил и уважал до сих пор, как мудреца, ни в верность Кузи, ни в товарищество Якуни.
Иванка слышал, как пропели петухи… Забрезжил рассвет… С улицы звякнула железная щеколда калитки…
Старуха вошла из сеней в сторожку.
– Захарка был ночью тогда у Первушки! – воскликнула она. – Кабы не он – откуда бы Захарка ведал, что Первой говорил, будто рубль Истома послал? Мы ведь двое с Первушкой были!
– Брось, бабка, полно! – остановил Иванка. – Хоть ты обкричись, что Захар, – и никто не поверит. Нет правды во Пскове!.. Михайла, Гаврила, Томила Слепой – все смотрят, чтоб для себя. Все лжа!.. И у Томилы нет правды, чтоб сдох он, подьячья крыса!
С печи, где спали вместе с бабкой Федюнька и Груня, послышался сдержанный девичий плач.
– Груньк, ты что?! – воскликнул разбуженный Федя.
– Ништо! Отвяжись! – огрызнулась она и умолкла.
7
Усталость взяла свое, и под утро Иванка уснул. Он проснулся, когда сполох собирал горожан снова к Рыбницкой башне.
Иванка решил, что больше ему нет дела до города. Остановясь на углу, купил у торговки пяток раскисших соленых огурцов, с независимым видом поплевывая вокруг кожуру и обливаясь рассолом, он подошел к площади.
– Господа дворяне, посадские, стрельцы, пушкари и вы, всяких званий меньшой люд, – сказал с дощана выборный дворянин Иван Чиркин. – Новгородцы послов к нам прислали – дворян и посадских, а с ними посол с царским словом к вам, псковитяне. Хотите ли слушать?
– Пусть говорят!
– Говорите, послы! – закричали вокруг дощана.
Десяток чужих людей – дворян и посадских – вырос на дощанах. Глава посланцев – дворянин Сонин вышел вперед.
– Господа псковитяне! – сказал он. – Добро ли творите? Крест целовали великому государю, а ныне что?! Ныне на русских братьев готовы с ружьем, как татаре… Где же крест на вас?! Вам бы в город впустить добром воеводу Хованского, как мы, новгородцы, впустили. Вам бы от дурна отстать, и вас государь пожалует по вашему челобитью… А коль вы в мятеже, то не пристало ему челобитья вашего слушать… Войско большое на вас идет. Чего доброго – город ваш пушками разобьют, пожгут!.. Чьей ради корысти?! Ради бездельных людей, кои шкуры свои от праведна гнева спасают…
Дворянин говорил, а народ молча слушал. Слова боярского посланца о войске многих смутили.
– Вам вины бы свои принести государю! – кричал с дощана дворянин на всю площадь.
– Мы бы рады – заводчики, вишь, не велят!.. – крикнул рядом с Иванкой старик посадский.
– Все бы рады! Заводчики не дают! – поддержали сзади.
– А вы бы заводчиков повязали! – выкрикнул дворянин с дощана. – Вон сколько народу троих крикунов устрашилась?! Связали бы да выдали их государю!.. Гаврилку Демидова да Козу.
– Не смеем! – крикнули из толпы.
– Вы нам пособите!..
– Спасибо скажем!..
Это были отдельные выкрики, может быть не более десятка человек, но, раздавшиеся с разных сторон, они посеяли в толпе смятение. Город не видел главных своих вождей, не слышал их голоса, и какая-то странная робость объяла сердца.
– Начните вязать – пособим! – откликнулся дворянин.
Иванка протолкался поближе и стоял у самого дощана. Он не видел в толпе земских выборных, ни Гаврилы, ни Прохора Козы, ни Томилы Слепого. Захарка, Мошницын, Чиркин, Устинов, Михайла Леванисов, Копытков стояли у дощана, вполголоса споря о чем-то между собой.
«Сдались сами изменники! – подумал Иванка. – Чего же Гаврила с Томилой глядят?! Где Коза?!» Он забыл, что дела городские – уже не его дела.
– Заткнись ты, собака! – не выдержав, крикнул Иванка, и мягкий большой огурец, пущенный меткой рукой, разлетелся вдрызг, ударясь в лицо дворянина…
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0