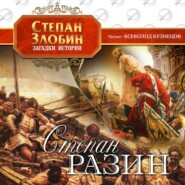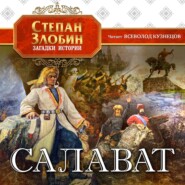По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров Буян
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этот вечер Мошницын, рано придя домой, завалился спать, чтобы выспаться разом за много дней и ночей. Иванка стукнул в окно, когда Якуня гулял с товарищами, бабка Матрена давно уснула и Аленка уже собралась ложиться.
Она встретила друга укором за то, что весь день он ее заставил дожидаться.
– Я чаял, и ты – как все, – ответил Иванка.
– А кто ж тебя любит? – шепнула Аленка ласково, как когда-то на берегу Великой, заглянув снизу в его глаза.
– Не знаю…
Она оттолкнула его:
– Ступай, поищи… Как найдешь, приди мне скажи.
– Нашел! – громко воскликнул Иванка, забыв, что через открытое окно его голос может услышать Михайла.
Он схватил и прижал Аленку.
– Ой, пусти!.. – прошептала она. – То-то, нашел!..
– Стало, веришь, Аленка, что я не видал Первушку в чулане? Бабка сказывает, что Захар приходил к Первушке тайком ночью.
– Пошто?
– Кто же их знает – пошто! Первушка – лазутчик боярский. Знать, и Захар…
– И ты, знать, таков же, как и Захар, и ты поклепать неправдой на друга готов для своей корысти…
– Когда так ты мыслишь, то и не быть между нами ладу! – резко сказал Иванка. – Либо ты мне поверь, что ни макова зернышка не соврал, либо прощай!
Аленка взглянула ему близко в лицо. В сумерках ее глаза казались огромными.
– Хочешь уходить? – спросила она.
– Не веришь – уйду.
– Я завтра ж тогда с Захаркой пойду к венцу…
– Нужна ты ему! У него есть невеста…
– Брешешь опять! – засмеялась Аленка, и она обхватила его крепче за шею.
Уверенная в том, что грамотку, отнятую у князя, Иванка из ревности приписал Захарке, она была уверена и в любви Иванки. Его ревность была для нее доказательством любви, и она сама позабыла девичью застенчивость.
– Ивушка мой, соколик, месяц мой ясный, люблю тебя, ни за кого не пойду, знаю, что ты с кручины ко мне не ходил, а Захарка наплел на тебя… Верю тебе одному…
– Во всем веришь? – опять перебил Иванка.
– Во всешеньком-развовсем!..
В саду пахло черемухой. Белые грозди ее свисали над самой скамейкой. Ее вяжущий вкус, казалось, был на губах. Сквозь ветви падал узорчатый лунный свет на щеки милой…
– Видишь теперь, что верю тебе во всем, как себе самой? – шепнула Аленка.
– Вижу, вижу, – ответно шептал Иванка, целуя ее вслед за каждым словом. – Вижу, вижу, вижу…
– А любишь?
– Горлинку мою нежную люблю, так люблю, что сказать не мочно.
После долгого одиночества и тоски он согрелся доверием и лаской, и ему казалось, что нет больше счастья, как сидеть под черемухой рядом с Аленкой…
Часы шли, и лунные тени кивали уже с другой стороны, и замолкли песни и смех молодежи.
Они не слыхали, как загудел тонким голосом в городе сполох, как вскочил Михайла и как распахнул он дверь в сад, где под навесом летом спала Аленка.
– Сполох! – крикнул он. – Я иду, Аленка, запри ворота…
Кузнец запнулся на слове, наткнувшись на Аленку с Иванкой, и вдруг изменившимся голосом тихо спросил:
– Что ж, Иван, и сполоха не слышал?
– Не слышал… – признался Иванка.
Аленка закрыла лицо рукавом.
– У-ух, ты! – Михайла с угрозой шагнул на дочь, но сдержался.
– Пошли, – сурово позвал он Ивана.
Иванка покорно пошел вслед за ним из сада.
Сполох звонил в городе.
Кузнец и Иванка молча запрягли лошадь. Иванка взялся за вожжи, и они покатили по встревоженному и шумному, несмотря на ночь, Завеличью.
Кузнец молчал. Добрая лошадь его несла их быстро к плавучему мосту.
Мост был запружен вооруженным народом и от скопления народа почти погрузился в воду.
– Дорогу! – крикнул Иванка. – Всегороднему старосте дорогу!
Во Власьевских воротах горели факелы. Стрельцы не пропускали никого в ворота.
– Случай вышел, – объяснил народу стрелецкий старшина, – думали, что войско пришло подо Псков, ан то послы…
– Что за послы? – спросил Михайла.
– Дворяне из Новгорода. Прискакали вестники от Егорьевских ворот, сказывали, чтобы не пускать народ, и сполох, слышь, уняли. Сказывают, утром станут спрошать послов…
Она встретила друга укором за то, что весь день он ее заставил дожидаться.
– Я чаял, и ты – как все, – ответил Иванка.
– А кто ж тебя любит? – шепнула Аленка ласково, как когда-то на берегу Великой, заглянув снизу в его глаза.
– Не знаю…
Она оттолкнула его:
– Ступай, поищи… Как найдешь, приди мне скажи.
– Нашел! – громко воскликнул Иванка, забыв, что через открытое окно его голос может услышать Михайла.
Он схватил и прижал Аленку.
– Ой, пусти!.. – прошептала она. – То-то, нашел!..
– Стало, веришь, Аленка, что я не видал Первушку в чулане? Бабка сказывает, что Захар приходил к Первушке тайком ночью.
– Пошто?
– Кто же их знает – пошто! Первушка – лазутчик боярский. Знать, и Захар…
– И ты, знать, таков же, как и Захар, и ты поклепать неправдой на друга готов для своей корысти…
– Когда так ты мыслишь, то и не быть между нами ладу! – резко сказал Иванка. – Либо ты мне поверь, что ни макова зернышка не соврал, либо прощай!
Аленка взглянула ему близко в лицо. В сумерках ее глаза казались огромными.
– Хочешь уходить? – спросила она.
– Не веришь – уйду.
– Я завтра ж тогда с Захаркой пойду к венцу…
– Нужна ты ему! У него есть невеста…
– Брешешь опять! – засмеялась Аленка, и она обхватила его крепче за шею.
Уверенная в том, что грамотку, отнятую у князя, Иванка из ревности приписал Захарке, она была уверена и в любви Иванки. Его ревность была для нее доказательством любви, и она сама позабыла девичью застенчивость.
– Ивушка мой, соколик, месяц мой ясный, люблю тебя, ни за кого не пойду, знаю, что ты с кручины ко мне не ходил, а Захарка наплел на тебя… Верю тебе одному…
– Во всем веришь? – опять перебил Иванка.
– Во всешеньком-развовсем!..
В саду пахло черемухой. Белые грозди ее свисали над самой скамейкой. Ее вяжущий вкус, казалось, был на губах. Сквозь ветви падал узорчатый лунный свет на щеки милой…
– Видишь теперь, что верю тебе во всем, как себе самой? – шепнула Аленка.
– Вижу, вижу, – ответно шептал Иванка, целуя ее вслед за каждым словом. – Вижу, вижу, вижу…
– А любишь?
– Горлинку мою нежную люблю, так люблю, что сказать не мочно.
После долгого одиночества и тоски он согрелся доверием и лаской, и ему казалось, что нет больше счастья, как сидеть под черемухой рядом с Аленкой…
Часы шли, и лунные тени кивали уже с другой стороны, и замолкли песни и смех молодежи.
Они не слыхали, как загудел тонким голосом в городе сполох, как вскочил Михайла и как распахнул он дверь в сад, где под навесом летом спала Аленка.
– Сполох! – крикнул он. – Я иду, Аленка, запри ворота…
Кузнец запнулся на слове, наткнувшись на Аленку с Иванкой, и вдруг изменившимся голосом тихо спросил:
– Что ж, Иван, и сполоха не слышал?
– Не слышал… – признался Иванка.
Аленка закрыла лицо рукавом.
– У-ух, ты! – Михайла с угрозой шагнул на дочь, но сдержался.
– Пошли, – сурово позвал он Ивана.
Иванка покорно пошел вслед за ним из сада.
Сполох звонил в городе.
Кузнец и Иванка молча запрягли лошадь. Иванка взялся за вожжи, и они покатили по встревоженному и шумному, несмотря на ночь, Завеличью.
Кузнец молчал. Добрая лошадь его несла их быстро к плавучему мосту.
Мост был запружен вооруженным народом и от скопления народа почти погрузился в воду.
– Дорогу! – крикнул Иванка. – Всегороднему старосте дорогу!
Во Власьевских воротах горели факелы. Стрельцы не пропускали никого в ворота.
– Случай вышел, – объяснил народу стрелецкий старшина, – думали, что войско пришло подо Псков, ан то послы…
– Что за послы? – спросил Михайла.
– Дворяне из Новгорода. Прискакали вестники от Егорьевских ворот, сказывали, чтобы не пускать народ, и сполох, слышь, уняли. Сказывают, утром станут спрошать послов…
Другие аудиокниги автора Степан Павлович Злобин
Салават




 0
0