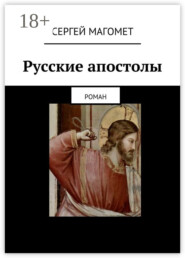По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великий полдень. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, я разговаривал с ним, как с ребенком и ничего не мог с собой поделать. И он это почувствовал. Я вышел.
Спать не хотелось. Некоторое время я слонялся по дому, рассматривая развешанные по стенам навигационные приборы. Два жирных мастино неотступно таскались следом за мной. Впрочем, со стороны могло показаться, что это я таскаюсь за ними.
Поднявшись на второй этаж, я услышал бархатистый голос дяди Володи. У него всегда голос делается бархатистым и певучим, когда он окружен маленькими слушателями и вдохновенно им о чем-нибудь повествует. Через приоткрытую дверь игровой комнаты я увидел его самого, расхаживающего взад и вперед. На ковре были разбросаны подушки, через которые он всякий раз аккуратно переступал. На одном диване сидела неподвижная, точно кукла, Зизи и задумчиво следила за передвижениями дяди Володи. На другом, задрав ноги на спинку, помещался Косточка и время от времени с усмешкой отпускал отдельные реплики по ходу вдохновенной речи «друга детей».
Дядя Володя описывал прелести и выгоды здорового образа жизни в Деревне. Говорил о природе, которая круглый год таит в себе бездну непознанного, рассуждал о возможностях, которые сулит автономное существование в Пансионе. Со временем все в Деревне будет перестроено. Особым образом перепланируют территорию: лесопарки, луга, берег реки. Несколько гектаров земли перейдет в исключительное пользование детей. Он рассказывал о порядках, которые будут здесь заведены. Дескать, в этом вопросе он собирается руководствоваться не только обширными педагогическими полномочиями, которые дал ему Папа, но и, конечно, индивидуальными запросами и склонностями своих подопечных.
Косточка с усмешкой поинтересовался, как насчет введения в Пансионе телесных наказаний и карцера, чтобы уж действительно все было в строго классическом стиле. Как мне показалось, Косточка теперь не имел ничего против Пансиона.
– Надеюсь, – заметил он между прочим. – у нас не станут держать слабачков, вроде Александра.
Нечего и говорить, как меня огорчило и уязвило его несправедливое замечание. Я хотел вмешаться и объяснить, что мой Александр никакой не слабачок, а наоборот, показал себя, как настоящий человек, как самостоятельная и сильная личность. Потом решил, что не стоит вмешиваться. Этим я только наврежу сыну, который, кажется, и так затаил обиду за то, что я попытался помирить его с Косточкой. Тут была затронута его гордость. Лучше всего если дети сами между собой разберутся. Во всяком случае теперь Косточка не станет агитировать Александра насчет Пансиона. Не нравилась мне эта затея, вот и все. Сам принцип разделения детей и родителей был противоестественным. Кроме того, после сегодняшней выходки Косточки, после его рассуждений, которые сильно смахивали на Папин стиль, я засомневался, стоит ли вообще допускать, чтобы Александр находился под его влиянием. Косточка старше на целых два года, у него, возможно, кризис переходного возраста, другие интересы и склонности.
– Так ты говоришь, Папа и Мама обещали не вмешиваться в воспитательный процесс, и вообще в дела Пансиона? – уточнил Косточка.
– При условии, что вы все время будете у меня на глазах, – улыбнулся дядя Володя. – Если я буду вас контролировать…
– А с тобой можно будет выезжать из Деревни?
– Нет, вот этого никак нельзя. Такое условие. Никуда не выезжать… Да и поверь, нечего нам делать в Городе. Здесь у нас будет все, что нужно для жизни.
– Это я уже понял. Деревня охраняется не хуже Москвы.
– Москва охраняется снаружи, а Деревня не только снаружи, но еще и изнутри, – не без лукавства добавил дядя Володя.
– А ты, значит, будешь у нас вроде директора?
– Ну да, вроде того.
– Тогда я спокоен, – беспечно и даже фамильярно заявил Косточка. – Вот только если бы родители наведывались сюда пореже… Впрочем, у Папы все дела в Москве, да и у Мамы тоже.
– Нет, я так не хочу! – вдруг беспокойно воскликнула маленькая Зизи. – Я буду скучать по ним! Я хочу жить с папочкой и мамочкой!
– Не слушай его, Зизи, – успокоил ее дядя Володя. – Помнишь, что говорила Мама? Они будут приезжать сюда очень часто. Может быть, каждый день.
– Вот уж сомневаюсь, – сказал Косточка.
Дядя Володя снова принялся убеждать их, что они заживут тут весело и интересно, а главное, можно сказать совершенно независимо и самостоятельно, почти как взрослые.
Я спустился в гостиную, посидел возле азартно раскладывающих карты наших старичков, вытянул еще пару рюмок ликера, а затем заглянул на половину Мамы. Наташа и Мама были заняты тем, что по очереди примеряли туалеты и, болтая о всякой чепухе, критически обозревали себя в огромном зеркале. Господи, до чего ж мне сделалось грустно! Я вернулся в наши комнаты. Взглянул на Александра. Тот уже крепко спал. Он успокоился куда быстрее, чем я думал. Мне захотелось немедленно нестись в Москву. Можно было бы взять дежурную машину, подъехать до ближайшей железнодорожной станции, но для этого пришлось бы обратиться к Маме, чтобы она распорядилась, а этого мне сейчас совсем не хотелось. Я бы, пожалуй, отправился пешком, но и тогда, на выходе из Деревни, пришлось бы объясняться с охраной: те полезут со своими услугами проводить, запросят машину, опять-таки переполошат Маму и Наташу. Спать не хотелось, но я лег в постель и, выключив ночник, стал думать о Москве и об апартаментах, которые Папа подарил Майе. Я прекрасно, до мельчайших мелочей помнил структуру и компоновку Западного Луча. Апартаменты, как мне уже было известно, располагались почти на самом пике Москвы, а именно на сорок девятом этаже. Значит из окон отрывался великолепный вид на Москва-реку и на голубую стрелу Можайского шоссе.
Ясным днем с эдакой верхотуры вся гигантская панорама представала в обрамлении облаков, в синеве неба и сиянии солнца, которое на закате плавно опускалось в густые подмосковные леса. Ястребы, кружащие в поднебесье, казались оттуда чем-то вроде домашней птицы, а стаи пернатых внизу перемещались с места на место, подобно скоплениям мотыльков. Более низкие уровни – Лучи, расположенные ступенями, поблескивали сплошными поверхностями окон с тонированными стеклами разных оттенков. Через равные промежутки на уровнях, расходящихся наклонно в виде многоконечной звезды, голубели в округлых проемах искусственные водоемы, укрытые обширными сводами кровли из идеально прозрачного пластика. В вечернее и ночное время многочисленные прожектора мягко подсвечивали сложно пересеченные поверхности башен, и волны света, бегущие от одной отражающей грани к другой, преломляясь и перекрещиваясь, взбирались от подножия к самому верху.
Когда я погружался в мысли о Москве, то уже не знал наверняка, сплю я или бодрствую. Трудно было понять, возникала ли она в моем воображении, словно в ярком сне, или же представала в туманной реальности… О да, я уже соскучился по Москве так, как спустя много лет скучают по родине. Это любовь. Конечно, она мне приснилась. Как снилась каждую ночь. И невозможно было сказать, в каком воплощении она манила своей прекрасной тайной больше – во сне или наяву.
И вот быстро-быстро, в доли мгновения, облетев любимую Москву по всем ее частям, лучам, уровням и закоулочкам, я начал падать. Но не вниз, а вверх. Из мрака к свету…
Снова горел над кроватью ночник. Поздно ночью Наташа держала меня за руку и рассказывала о только что поступивших известиях. Во-первых, наш высочайший покровитель, дряхлый любитель архитектуры и прочих искусств, безволосый жрец и правитель государства, Его Высокопревосходительство изволил—таки после тяжелой и продолжительной болезни, но скоропостижно почить в Бозе. Действительно умер. А во-вторых, на Папу было совершено очередное покушение. Бомба взорвалась перед одним из въездов в Москву. Заряд, распределенный на три части, был заложен в туннеле у Дорогомиловской заставы. Три четверти туннеля обрушилось в мгновение ока, но бронированный лимузин Папы успел вылететь из туннеля в густом облаке пыли и пламени. Правда, задние колеса, бампер, фары – все выглядело так, словно автомобиль побывал в громадных стальных челюстях. Последние пятьдесят метров до ворот Москвы слегка контуженному Папе пришлось преодолевать пешочком. В Москве он был в полной безопасности. На Москве—то, слава Богу, все было совершенно спокойно.
2
Правду говорят: как встретишь Новый год, так и проведешь. Причем независимо оттого, подвержен ты этому суеверию или нет. Не сомневаюсь, что покушение на Папу было спровоцировано кончиной престарелого правителя. Кое?кто, решив, вероятно, что власть пошатнулась, поспешил обнаружить свое нетерпение. И напрасно: все было предусмотрено и расписано.
Через три дня, как и полагается, со всеми протокольными почестями после массового шествия и отпевания, усопший правитель упокоился на Новодевичьем кладбище бок о бок со своими славными предшественниками. Государственный совет заседал уже на следующий день, и всенародные выборы были назначены на конец апреля. Многочисленные карманные кандидаты были впрыснуты в лоно политики скорее из соображений эстетических, нежели практических. Основным же кандидатом, как и договаривались, выдвинули лидера партийного большинства – нашего Федю Голенищева, любимого народом за простоту и юмор. Таким образом, система изолированных и уравновешенных сфер, внутри которой обосновался Папа, снова обретала центр.
Казалось бы такой незначительный эпизод, как смерть старика, не должен был вызвать бурных переходных процессов. Однако брожение-таки началось. Причем исподволь, буквально из ниоткуда, но весьма злокачественное, и события вскоре посыпались обильно. Увы, увы, человеческий фактор – всегда самая скользкая и предательская штука.
Уже в первый день после возвращения в Город, я почувствовал, что дело оборачивается неладно и меры взяты экстраординарные. Несмотря на то, что морозы еще стояли довольно сильные, на центральные улицы, а особенно в городские кварталы, примыкающие непосредственно к Москве, публика, словно чего-то ожидая, сходилась значительными толпами. Хотя никто, конечно, не знал и не подозревал, чего именно следует ожидать. Тревожный тон задавали траурная обстановка и сопутствующие ей мероприятия. Повсюду были выставлены усиленные военизированные наряды, во дворах на холостом ходу пыхтели тяжелые грузовики и бронетранспортеры. Впрочем, нельзя сказать, что публика была настроена исключительно на траурный лад. В подобной обстановке всегда возбуждается своего рода праздничный кураж, ажиотаж, жажда чего-то большего, чем просто наблюдение за рутинным исполнением церемоний. В такой атмосфере даже самый нелепый слух с готовностью подхватывается и раздувается до фантастических пределов.
Сначала заговорили о якобы грядущей грандиозной денежной реформе (хотя и младенцу было ясно, что реформировать, слава Богу, уже решительно нечего, поскольку этих реформ и так было проведено без счета). Затем пошли слухи о подспудных волнениях в армии и возможном выдвижении из армейской среды военного диктатора. Последнее связывалось с усилением активности так называемых теневых структур и готовящемся путче с последующей всеобщей криминализацией, повсеместным террором и анархией, чему могли противостоять лишь военные. И, наконец, договорились до того, что уже сформировано параллельное временное правительство, в планах которого не то произвести смену общественно-государственного строя (…какого на какой, интересно?!), не то вообще провозгласить отмену каких-либо национальных государственных институтов по причине построения одного общемирового дома, – что, само по себе, было бы, наверное, не так уж и плохо.
Конечно это были только журналистские утки и обывательские бредни, и не стоило бы обращать на них особого внимания, но жизненный опыт подсказывал, что с подобных бредней у нас обычно и начинается все самое паскудное.
Наши старички, у которых на такие дела был благоприобретенный нюх, отреагировали первыми: принялись обсуждать, не пора ли запасаться спичками, стеариновыми свечами и макаронами. Мой отец, которого я всегда искренне считал мудрым старичиной, вдруг приволок откуда-то с толкучки допотопную керосинку и принялся демонстративно ее чистить. Наташа, конечно, быстро ликвидировала этот приступ помешательства – вышвырнула антикварную керосинку вон, а свекра пригрозила отправить в специальный санаторий, но въедливый запах керосина остался, а вместе с ним ощущение тревоги: вот, мол, оно – началось!..
Через некоторое время я пересекся с профессором Белокуровым, который, будучи природным аналитиком и обществоведом, считал своим долгом находиться в курсе всех подробностей текущей политической ситуации, а также закулисных интриг. Доверительно склонившись к моему уху, профессор доходчиво и с научной точки зрения объяснил мне суть происходящего. Во-первых, учитывая нашу национальную специфику, любая смена правителя есть смутное время по определению, то есть предполагает наличие этой самой политической мути и ядовитого угара, а следовательно, порождает некоторые тревожные ожидания. Во-вторых, данный момент является чрезвычайно темным, можно сказать мистически и метафизически разломным, и обладает креативным свойством продуцировать всяческие турбулентности. Это его, профессора, дословная формулировка.
– Вот оно как, – молвил я.
Профессор авторитетно тряхнул брылями. Он спешил на ученый совет и, сутулясь, убежал. Вместо него, откуда не возьмись, материализовалась его богемная половина, которая взяла меня под руку и за чашкой кофе нашептала, что на самом деле все обстоит даже сложнее, чем объяснил профессор. А конкретно – «продуцированные турбулентности» еще бы ничего, но вот какой случился совершенно неожиданный сюрприз: наш домашний маршал Сева, ревностный служака и душа-человек, элементарно «дал говна».
– Чего-чего? – переспросил я, думая, что ослышался.
Но нет, не ослышался. Она повторила. Дескать, именно так охарактеризовал поведение маршала сам Папа. И, видимо, не безосновательно.
Маршал Сева, герой многих справедливых (и не очень) войн, изначально был правой рукой народного любимца Феди Голенищева и клятвенно обещался обеспечить новому правителю полный контакт и взаимодействие с военными. Однако, когда дошло до дела, вдруг закапризничал и потребовал, чтобы предварительно его сделали генералиссимусом.
– Зачем? – пробормотал я. – Это же просто глупо…
Богемная половина взяла меня за руки.
– Действительно, – кивнула она. – Очень глупо. Ты творческий человек, Серж. Как и я. Нам эти надрывы и припадки обывательского тщеславия неведомы. Мы существуем в мире идей. Мы живем в горних высях и питаемся так сказать акридами. Ради высших целей. Ради озарений!..
В общем, сказался тот самый человеческий фактор, хотя от маршала Севы, заслуженного ветерана, этого никак нельзя было ожидать. Разумеется, не могли ему дать генералиссимуса так сразу, с бухты-барахты, это уж извините, были дела и поважнее. Но он якобы стал прямо намекать, что, мол, тогда и без вас сделаюсь генералиссимусом. Еще, мол, сами придете мириться и дружиться… Папа после покушения, хотя и находился под впечатлением недавней контузии, горячиться не стал. Он только распорядился, чтобы «кандидату в генералиссимусы», уже якобы начавшему поднимать войска и обкладываться верными батальонами десантуры, передали, что он, Папа, вместе с Федей Голенищевым намерен смиренно приехать к маршалу в бункер для вручения «верительных грамот». Впрочем, Папе не пришлось беспокоиться. Почти мгновенно поступило встречное сообщение. Должно быть, мятежный маршал до того впечатлился христианской кротостью Папы, что быстренько образумился, и сам летел к Папе с выражением всемерного раскаяния и абсолютной лояльности. Они недолго беседовали. Непосредственно от Папы, пристыженный и притихший, блудный маршал отправился прямиком на исповедь к о. Алексею, который принял исповедь и, чувствительно стукнув свое духовное чадо костяшкой согнутого среднего пальца по лбу, отпустил с Богом. Инцидент, как будто, был исчерпан.
Что касается меня, то я был очень рад, что все обошлось бескровно. Я-то понимал, что Папа очень даже был способен отреагировать иначе. Куда как не по-христиански.
Дальнейшее можно было восстановить при помощи элементарной логики. Невинный, почти семейный эпизод не удалось сохранить в тайне. Мимолетная распря в верхах, промедление и шатание в окружении Папы спровоцировали не только упомянутые, ни на что не похожие слухи, но и, по всей видимости, учитывая судьбоносность и горячку смутного времени, заставили кое-кого предпринять поспешные шаги, что и положило начало расколу, который, как я надеялся, еще можно было преодолеть.
Теперь я понимал, что крылось и за другим эпизодом. Ко мне уже подсылали посредников от нашей местной мафии, которая прочно утвердилась под видом районных выборных органов, вроде комитетов народного самоуправления. С предложениями сотрудничества. Господи, какого они ждали от меня сотрудничества? Присутствовать народным заседателем на их судах Линча что ли? Или комиссарить в местном вооруженном формировании?.. Обычно я отговаривался под предлогом чрезвычайной загруженности и по причине непрерывного творческого процесса. Но на этот раз, едва я вернулся в Город, меня остановили прямо на улице и льстиво, но с бандитской бесцеремонностью усадили в машину и доставили на какое-то их районное мероприятие.
Среди сплошь безвестных уголовных рож, я разглядел одну знакомую, в которой распознал известного по телевизионным новостям легализировавшегося громилу по кличке Парфен. У них, между прочим, у всех завелись почему-то нарочито крестьянские имена: Трофим, Игнат, Семен, Макар, Парфен, Ерема… Словом, разбойники отмороженные, самые отъявленные. У них как раз слушался в своем роде программный доклад с перспективами на начавшийся год. Доклад был подготовлен явно с прицелом произвести эффект на начальство. Я даже успел уловить несколько впечатляющих цифр.
– Серж, – ласково сказал мне этот Парфен, когда я оказался ломящимся от жратвы за столом в компании с развратными девицами, – мы знаем, что ты творческий человек… – «А творческие люди все придурки», – видимо хотел продолжить он, но продолжил иначе: – Ты вынашиваешь грандиозные планы, чтобы еще больше прославить нашу Москву-матушку да и всю Россию…
Парфен был рыж, раж и имел ядреные зубы, которыми, пожалуй, мог бы без труда загрызть акулу. Таким экземплярам, как он, самое место в зоопарке. У него, кстати, имелся младший брательник, Ерема, такой же вепрь с рыжим чубом, скромно державшийся по правую руку от старшего брата и культурно икавший в молоткастый кулак.
«Когда это она стала вашей, гориллы?» – надо было спросить мне, но я не стал размениваться. В конце концов, их тоже можно понять: и они мечтали наложить лапы на этот перл градостроительства.