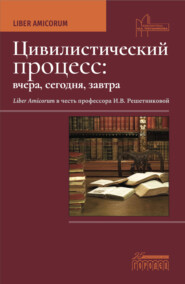По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в аддиктологию
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Более современное понимание нейробиологических механизмов аддикции отражено в трехкомпонентной концепции, включающей три нейрокогнитивных процесса (Turel, Bechara, 2021):
1. Гиперактивность подкорковых дофаминзависимых структур, которые отвечают за импульсивность и награду, что приводит к чрезмерному желанию вознаграждения.
2. Гипоактивность префронтальной коры, отвечающей за рефлексию, самоконтроль и сдерживание реакции на ПАВ-стимулы.
3. Дисрегуляция островковой доли (инсулы), отвечающей за интероцептивную обработку (ощущения, которые поступают из внутренней среды организма), вегетативные функции и поддержание гомеостаза.
Основным недостатком (ограничением) данной теории является отсутствие специфического патогномоничного признака нарушения в головном мозге, который можно было бы использовать в качестве диагностического теста. Однако методы нейровизуализации не являются диагностическими инструментами для выявления многих других неврологических и психиатрических заболеваний, например, мигрени, болезни Хантингтона или биполярного расстройства. Даже при таких состояниях, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, выявленные методом нейровизуализации нарушения не заменяют клиническую оценку. Нейровизуализация, однако, используется для изучения нейробиологических основ формирования аддикции, и в будущем представляется перспективным изучение связей между нейровизуализационными данными и генетическими, клиническими и психологическими характеристиками.
Более подробно нейробиологические механизмы аддикции описаны в Главе 3 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И ФАРМАКОЛОГИЯ ПАВ».
1.8. Медицинская теория аддикции: аддикция как болезнь мозга
Следствием накопления доказательств в пользу биологической теории стал постулат о том, что аддикция – это «болезнь головного мозга». Однако понимание «аддикции как хронического заболевания мозга» было также попыткой противопоставления превалирующего, морализаторского и стигматизирующего отношения к аддикции как к слабости характера / силы воли. Для повышения обращаемости за медицинской помощью людей с аддиктивным поведением в 1997 г. Алан Лешнер (в то время – директор Национального института наркомании США) сформулировал важность понимания «аддикции как болезни мозга» (Leshner, 1997). Аргумент в пользу данного представления основан на определении «здоровья» ВОЗ (Устав ВОЗ, 1948) как состояния полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов. Таким образом, аддикция противопоставляется состоянию здоровья и понимается как патологическое состояние, которое обладает рядом сходных черт с другими хроническими заболеваниям, развитие которых необходимо предупреждать, а при наличии расстройства – диагностировать и лечить. Например, аддикция и такие заболевания, как диабет или сердечно-сосудистые, имеют следующие сходства: 1) роль генетических факторов в развитии аддикции, 2) наличие специфических симптомов и синдромов, которые можно клинически оценить, 3) роль факторов окружающей среды и социальных факторов, 4) ответ на терапию при соблюдении режима лечения, 5) хроническое течение, характеризующееся сменяющими друг друга эпизодами рецидива и ремиссии. При наблюдении за естественными исходами алкогольной зависимости у пациентов, которые не обращались за лечением в течение десяти лет, выявлено, что 30 % достигли стабильной ремиссии, 40 % продолжали употребление в больших количествах, и у 30 % заболевание привело к смерти (Latt, 2009). В исследовании Мак-Лиллана и соавторов было показано, что частоты рецидивирования при таких заболеваниях, как гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет и наркомания, сопоставимы по порядку величин (McLellan et al., 2000).
Согласно данному представлению, аддикция – это хроническое патологическое состояние, при котором нарушаются нейрональные сети обеспечения исполнительных функций и усиливаются определенные мотивационные процессы, в результате взаимодействия между поведением и результатом влияния данного поведения на мозг, включая прием ПАВ.
Однако данное представление подвергается критике в современном научном сообществе. Основными аргументами против данной концепции являются: 1) высокая частота спонтанной ремиссии при зависимости от некоторых ПАВ, 2) отсутствие специфических патологических изменений в мозге, 3) поведение людей с зависимостью не всегда является компульсивным, иногда они способны сделать осознанный и выгодный выбор и 4) понимание аддикции как болезни мозга является детерминистской теорией.
1.9. Социальная теория аддикции: внешние условия формируют аддикцию
Существуют теории и исследования, которые предпринимают попытки понять аддикцию с точки зрения взаимодействия факторов на уровне популяции – социальных и экономических связей, коммуникации, маркетинга в контексте системы.
Например, эксперименты Б. Александра в 1970-х годах, которые стали называть «крысиным парком», показали, что при помещении крыс в клетку, совершенно одних, без других крыс (Рисунок 1.10), при выборе между бутылкой с водой и бутылкой с героином или кокаином, крысы предпочитали пить из последних, причем не останавливаясь, пока не наступала передозировка и смерть (Alexander et al., 1981). При помещении крыс в «крысиные парки» (Рисунок 1.11), где они находились среди других крыс и могли свободно бродить и играть, общаться и заниматься сексом, наблюдалось противоположное явление (Рисунок 1.12). При одинаковой доступности к тем же двум типам бутылок крысы предпочитали простую воду. Даже когда они пили из бутылки, наполненной наркотиком, они делали это периодически, и никогда не наблюдались случаи передозировки.
Результаты эксперимента Б. Александра предполагают следующий вывод: компульсивное употребление может быть выбором в ответ на влияние факторов окружающей среды, а не биологически обусловленным заболеванием.
Другой пример, подчеркивающий важность контекста окружающей среды в развитии аддикции, – это исследование Робинса и др. (Robins et al., 1975). Исследование, проведенное среди американских ветеранов Вьетнамской войны, показало, что спустя 8–10 месяцев после возвращения в привычную домашнюю обстановку две трети ветеранов не употребляли героин, а синдром зависимости развился менее чем у 1 %, тогда как во Вьетнаме около половины пробовали наркотик и у 20 % была зависимость (Robins et al., 1975). Однако эти находки разительно отличаются от клинического наблюдения за пациентами с аддикцией. Например, когда пациенты в течение госпитализации по поводу лечения алкогольной зависимости достаточно длительное время не испытывают влечения к ПАВ, но зачастую возобновляют употребление после возвращения в свою привычную социальную среду. Таким образом, вероятно, в развитии зависимости играют роль следующие компоненты – (1) непосредственно ПАВ, (2) индивид, употребляющий ПАВ и (3) окружающая среда. Следовательно, аддикция должна изучаться интердисциплинарно, включая такие области науки, как психиатрия, фармакология, нейробиология, психология и социология, где ключевыми объектами исследования являются мотивация и выбор, но при этом учитываются биологические особенности и предрасположенность к развитию аддикции.
1.10. Интегративная модель
Выше описаны исследования, изучающие аддикцию в различных научных областях, в результате чего были получены важные сведения о предпосылках и формировании зависимости от ПАВ. Однако каждый подход имеет свои ограничения и более того – как показывает практика, важно сочетание различных мер на разных уровнях для контроля заболеваемости и течения зависимости. Следовательно, логичной представляется попытка синтеза накопленных знаний в единую концептуальную модель, которая могла бы объединить все существующие модели воедино, что могло бы обеспечить логичное и последовательное изложение процесса становления аддикции.
В интегративной модели аддикция является в какой-то степени и выбором (осознанное поведение), и автоматическим поведением, и поведением, обусловленным окружающей средой. В книге Роберта Уэста, посвященной стигматизации моделей аддикции, опубликованной Европейским центром мониторинга наркотиков и наркозависимости (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA]), представлен список основных понятий, которые были выведены в результате концептуализации различных моделей аддикции (West, 2013). Однако автор признает, что представленный в книге список не включает все детали биологических моделей, объясняющих поведение. Кроме того, прямой перенос результатов, полученных на животных моделях, на человека не всегда представляется возможным, и, как правило, полученные выводы представляют только часть причинно-следственной связи формирования зависимости и не учитывают все аспекты особенностей индивида, окружающих условий и их взаимодействия.
Интегративная модель поведения предполагает, что поведение возникает в результате сочетания трех компонентов (COM-B модель, Рисунок 1.13): способности (capability), возможности (opportunity) и мотивации (motivation) (Michie et al., 2011). Формирование аддиктивного поведения в данной модели основано на сочетании трех факторов – способности, мотивации и возможностях. Два фактора, способности и мотивация (capability and motivation), являются индивидуальными: 1)психологические и физические способности индивида (например, саморегуляция, способность формировать личные правила и придерживаться их, способность противостоять импульсам к действию), и2)конкурирующие мотивы (например, потребность в«самолечении» эмоционального негативного состояния, предвкушение облегчения). Причем мотивы могут быть как автоматическими (т.е. острое ощущение необходимости действовать), так и рефлексивными (т.е. анализ выгод и затрат, оценка вреда). Третий фактор выходит за рамки индивида и представляет собой фактор окружающей среды – возможности в социальном и физическом окружении (например, доступность ПАВ, доступность альтернативных источников награды). Поведение (в данном примере аддиктивное) является продуктом взаимодействия трех вышеобозначенных компонентов.
Пример физической способности в рамках данной модели у индивида с наркоманией – это навык введения наркотика внутривенно, а психологическая способность – это способность понимания влияния введения наркотика на здоровье. Способности устанавливают границы того, что мы можем сделать. Пример рефлексивного (т. е. основанного на анализе) мотива употребления – это убеждение, что ПАВ не приводит к зависимости и не приносит вреда здоровью, а автоматического – ощущение эйфории сразу после употребления ПАВ. Мотивы определяют, что мы делаем и как мы это делаем в пределах границ конкретной личности. Возможность в социальном окружении – это наличие в окружении людей, употребляющих наркотики, а физическое – наличие места (например, онлайн-платформы), где можно купить наркотик.
Данная интегративная модель не является психологической или социальной и представляет собой системный подход для анализа поведения на разных уровнях – на уровне индивида, отдельных субпопуляций, социальных групп и популяций. Мотивация играет важную роль в формировании аддикции, однако влияние компонентов возможностей и способностей может различаться у разных людей при различных обстоятельствах. Например, для одного влечение к алкоголю настолько сильно, что он ищет возможности для удовлетворения этой тяги, тогда как другой испытывает влечение только при возникновении возможностей. Для одного употребление опиоидов является постоянной необходимостью для поддержания определенного уровня функционирования, тогда как другой может испытывать сильное желание только в определенных ситуациях.
Дальнейшим развитием COM-B модели в аддиктологии является интегративная модель, основанная на теории мотивации PRIME (West, 2013). В рамках этой модели описаны автоматические и рефлексивные процессы, их взаимодействие между собой и с окружающей средой, целью которых является контроль нашего поведения, а также их участие в механизме инициации употребления ПАВ, развития аддикции, выздоровления (попытки воздержания, формирования ремиссии, снижение употребления ПАВ) и рецидива. Данная теоретическая модель имеет практическую ценность, так как помогает оценить разные факторы, влияющие на каждую из этих четырех фаз, которые связаны со способностями, возможностями и мотивацией (потребностей), и, как следствие, может использоваться в качестве основы для разработки комплексных интервенций с целью изменения поведения и лечения расстройств, обусловленных употреблением ПАВ. Однако данная теоретическая концепция не является заменой других моделей, но, скорее, является попыткой интегрировать различные ключевые составляющие в одну теорию.
Мотивационная система является продуктом эволюции, и многие живые существа имеют сходства мотивационных процессов. Мотивационная система – это процессы, которые направляют деятельность и организовывают последовательность нашего поведения от одного действия к другому. У человека принято выделять пять основных взаимодействующих между собой подсистем внутри мотивационной системы, которые на английском языке составляют акроним PRIME (Рисунок 1.14). Планы составляют наши сознательные намерения, ответы включают наши действия – их начало, прекращение и модификацию, импульсы – это финальная точка пути к поведению, мотивы – это «хочу» и «надо», а оценка – это наши суждения («хорошо» или «плохо»). На рисунке представлены взаимосвязи между подсистемами. Так, мотивы могут влиять на ответы через импульсы, а оценки влияют на ответы через мотивы и затем на импульсы. Планы придают структуру нашим действиям и влияют на них первоначально через оценки, которые происходят во время исполнения действий.
Рисунок 1.15 иллюстрирует пути взаимодействия между внешними стимулами, внутренними состояниями и компонентами мотивационной системы. Так внешние стимулы/информация на определенном уровне воспринимаются и интерпретируются перед тем, как «попасть» в мотивационную систему.
Ключевые принципы функционирования мотивационной системы отражаются в пяти законах мотивации:
1-й закон мотивации: в каждый момент мы действуем, преследуя свои самые важные мотивы («хочу» и «надо») в этот момент. Желания («хочу») предполагают получение удовольствия или удовлетворения, а потребности («надо») – облегчение или избегание психического или физического дискомфорта.
2-й закон мотивации: оценка (суждения о том, что «хорошо» и что «плохо») и планы (осознанные намерения делать или не делать какие-то вещи) могут только контролировать наши действия, если они создают такие мотивы, которые наиболее сильны в определенный момент и превосходят другие конкурирующие мотивы, происходящие из других источников.
3-й закон мотивации: самоконтроль (действие в соответствии с планами, несмотря на противоположные мотивы) требует психической энергии, и при истощении самоконтроль снижается.
4-й закон мотивации: наши мысли, чувства, представления, отношение к другим являются важным источником мотивов и отражаются в определенных ярлыках (категориях, в которых мы думаем о себе), атрибутах (характеристики, которыми мы описываем себя другим) и личными правилами (императивы – что мы должны и не должны делать).
5-й закон мотивации: мотивы влияют на наши действия, образуя импульсы или ингибируя контроль, что также приводит к привычкам (через обучение) и инстинктивным (без обучения) ассоциациям, поведение контролируется наиболее сильными на данный момент импульсами или ингибированием (подавлением).
Модель PRIME подчеркивает важность разграничения между автоматическими и рефлексивными процессами, однако несколько отличается от классических двухпроцессных моделей. Во-первых, согласно модели PRIME, многоуровневая иерархия влияния на поведение, например, убеждения работают через желания («хочу» и «надо»), которые, в свою очередь, работают через импульсы и контр-импульсы (контроль/торможение). Во-вторых, признается фундаментальное различие между автоматическими процессами, которые задействуют аффективные цели («хочу» и «надо»), и автоматическими процессами, которые задействуют ассоциации стимул – импульс (Рисунок 1.16).
Развитие аддикции может быть обусловлено нарушением любого компонента мотивационной системы. Авторы теории предлагают следующие примеры для каждого компонента.
Нарушения формирования и реализации планов: 1) нарушение способности формулировать последовательные планы, обеспечивающие структуру повседневной жизни и защищающие от мотивов, возникающих при получении готового вознаграждения; 2) нарушение связи между планами и мотивационными структурами более низкого уровня, что снижает способность формировать мотивы, которые могут противодействовать импульсам к аддиктивному поведению.
Согласно теории PRIME, существует множество элементарных процессов, которые приводят к этим нарушениям. Например, автоматические процессы сенситизации, привыкания, имитации, восприятия, и рефлексивные процессы анализа, ассимиляции, способность делать выводы. Важно отметить, что модель включает процессы, которые не включены в предыдущие модели (например, взросление), но для которых существуют значительные доказательства их важности. С другой стороны, есть процессы, которые изредка могут повлиять на формирование аддиктивного поведения, например, повреждение префронтальной коры, в результате которого могут развиться модели расторможенного поведения.
Другой важный аспект теории PRIME – это признание того, что процессы формирования аддикции следуют нелинейному курсу и являются «хаотичными» (характеризуются теорией динамического хаоса (Gleick, 2011)). Согласно теории динамического хаоса, одно простое базовое уравнение, которое повторно применяется к собственным результатам, в какой-то момент времени может привести к очевидно стабильной модели поведения, а затем, без видимых внешних причин, хаотически переключаться с одной модели на другую, прежде чем вернуться к исходной модели или перейти к новой стабильной модели. Затем новый стабильный паттерн может вернуться без какого-либо очевидного предупреждения либо к хаотичному переключению, либо к первоначальному стабильному паттерну. Данное предположение подтверждается наблюдением того, что развитие аддиктивных расстройств и выздоровление от них может идти по разным траекториям, от стабильных постепенных изменений до внезапных изменений без какого-либо очевидного движущего фактора. Таким образом, представляется важным определить условия, при которых происходит переход от одной модели к другой.
Согласно интегративной модели, аддикция – это уникальное хроническое заболевание головного мозга, развивающееся во времени и проявляющееся компульсивным поведением, при котором нарушается работа мотивационной системы таким образом, что употребление ПАВ (или другой вид аддиктивного поведения) становится наиболее приоритетной потребностью и, как следствие, употребление повторяется, становится более частым, регулярным и чрезмерным, несмотря на негативные последствия, что приводит как к биологическим, так и к психологическим изменениям. Нарушения системы происходят в связи с эффектами ПАВ (сенситизация, толерантность, отмена, изменение настроения), или других факторов – индивидуальных особенностей индивида, употребляющего ПАВ (тревога, депрессия, низкая самооценка, импульсивный контроль). Кроме того, важную роль играет влияние окружающей среды такой степени интенсивности, когда даже условно нормально функционирующая мотивационная система не может этому противостоять.
1.11. Почему кто-то становится зависим?
Хорошо известно, что многие люди в мире употребляют легальные и/или нелегальные ПАВ, но не каждый становится зависимым от ПАВ. Употребление ПАВ является необходимым условием возникновения химической аддикции, но не является единственным фактором, определяющим риск развития расстройства. В настоящее время известно о большом количестве факторов и механизмов формирования аддикции, которые легли в основу множества теоретических моделей понимания зависимости. Не существует одной-единственной причины возникновения аддикции. Сам факт существования множества моделей формирования зависимости отражает мультикомпонентность и мультифакторность проблемы. Условно, факторы можно разделить на две группы причин развития зависимости: 1) внутренние, когда система становится патологической из-за действия ПАВ (сенситизация, толерантность, синдром отмены) или других индивидуальных факторов (тревога, депрессия, низкая самооценка, импульсивность), и 2) внешние, когда нормально функционирующая система не способна справиться с сильным внешним воздействием (стрессовые ситуации, межличностные конфликты).
Индивидуальная уязвимость для формирования аддикции включает ряд факторов: генетическую предрасположенность; «драйв» получения нового опыта («пока не попробуешь, не узнаешь»); низкую способность или отсутствие склонности к самоограничению; склонность к формированию ассоциативных связей больше с «наградами», чем с «наказанием»; идентичность, при которой вовлечение в аддиктивную деятельность оценивается положительно; предрасположенность к таким эмоциональным состояниям, при которых аддиктивное поведение приводит к награде (например, депрессия), и физиологическая «уязвимость» к эффектам аддиктивных действий или метаболические особенности при приеме ПАВ (West, Brown, 2006). Например, среди пациентов с зависимостью широко распространены различные преморбидные психологические проблемы по сравнению с людьми, у которых не развилась зависимость. Другой пример – это различия в достижении баланса между положительными и отрицательными эффектами алкоголя, что в большей степени определяется способностью организма справляться с основным токсичным метаболитом алкоголя, ацетальдегидом (West, Brown, 2006). Есть доказательства того, что социальные нормы, возможности, скука, стрессовые факторы и определенные потребности могут быть связаны с развитием зависимого поведения (West, Brown, 2006).
Таким образом, все факторы риска условно можно разделить на следующие группы: 1) биологические, 2) психологические, 3) социальные и другие факторы окружающей среды (Stone et al., 2012). К примерам биологических факторов относятся генетические особенности, перинатальное воздействие алкоголя и табака (курение и употребление алкоголя беременной), мужской пол, особенности структурной организации головного мозга (например, системы награды), неврологические нарушения, возраст начала употребления ПАВ, травмы, операции и некоторые другие медицинские процедуры, нерациональное назначение лекарственных средств с высоким аддиктивным потенциалом, применение опиоидных анальгетиков. Примеры социальных факторов и факторов внешней среды включают отсутствие социальной поддержки, насилие, пренебрежение, недостаток родительского контроля, развод, конфликты, стрессовые жизненные события, экономические факторы, социальные нормы, неблагополучный район, доступность ПАВ (употребление в среде сверстников) и давление со стороны окружающих. К психологическим и психосоциальным факторам риска относят обучение неадаптивным стратегиям и усвоение неадаптивной модели поведения родителей, низкую успеваемость в школе, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), антисоциальное поведение, неадапативные копинг-стратегии, личностные особенности, поиск ощущений/новизны, выраженную импульсивность, нарушения в сфере психического здоровья.
Более подробно результаты исследований, изучающие факторы риска развития аддикции, описаны в Главе 2 «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ И РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕМ».
1.12. Почему что-то становится причиной аддикции, или что такое «аддиктивность»?
Аддиктивность, или аддиктивный потенциал, – это способность изменять мотивационную систему, когда некая деятельность (например, употребление ПАВ) приводит к наивысшей награде или становится привычной спустя какое-то время у некоторых уязвимых индивидов, или когда эта деятельность снижает способность индивида к самоограничению. Эта деятельность может напрямую влиять только на некоторые элементы системы мотивации, однако из-за того, что в системе все элементы взаимосвязаны, данная деятельность приводит к изменениям других составляющих системы. Например, сигареты обладают «аддиктивным потенциалом», так как они быстро доставляют никотин в мозг в той форме, которая наиболее социально приемлема и удобна, в сочетании с характерным относительно приятным стимулом награды (например, вкусом и ощущениями в горле), в то время как негативные последствия курения отсрочены и их сложно опасаться на ранних этапах формирования никотиновой зависимости. Сигареты не курили бы, если бы в них не было никотина, но зависимость от сигарет включает в себя, в том числе, систему суждений, мотивов и эмоций, которые поддерживают определенное поведение, обусловленное фармакологическими эффектами никотина. Отметим, что «аддиктивный потенциал» варьирует у разных ПАВ. Это утверждение согласуется с эпидемиологическими данными, где показано (Рисунок 1.17), что доля людей с зависимостью, среди всех людей, употребляющих тот или иной вид ПАВ, варьирует в зависимости от его вида (Anthony et al., 1994).
Резюме
Концептуализация аддикции является важным шагом для определения эффективных способов воздействия на нее через модулирование процессов и факторов, участвующих в формировании зависимости. Риск развития аддикции у каждого конкретного индивида в разной степени определяют биологические, психосоциальные факторы и факторы окружающей среды. Употребление ПАВ повышает риск развития аддикции, однако само по себе употребление ПАВ необязательно ведет к ее развитию. В основе аддикции лежат поведенческие, психологические и биологические изменения, происходящие в результате повторяющегося частого употребления ПАВ. Для понимания поведения важно определить способности, возможности и мотивы, которые лежат в его основе, а также характер их взаимодействия. Интегративной теорией, объединяющей разные аспекты аддикции, является теория PRIME, в которой мотивация рассматривается как «сердце» аддикции, а также выделено несколько взаимосвязанных уровней мотивационной системы. К уровням мотивационной системы относят: 1) осознанные планы, которые являются ориентиром на будущее, 2) оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), обеспечивающие выбор плана и являющиеся основой для анализа и рефлексии, 3) мотивы/драйвы – ощущения «хочу» и «надо», появляющиеся в результате ожидаемого удовольствия/удовлетворения («хочу») или долженствования («надо»), связанные с воображаемым будущим, 4) импульсы и контр-импульсы, которые побуждают или тормозят поведение. Важно, что эти уровни не являются строгой иерархичной структурой, мотивы могут исходить из планов, могут вступать в конфликт с другими мотивами, которые служат более сильным источником ожидаемого удовольствия или облегчением страданий. Аддикция связана с наиболее сильными мотивами и потребностями, которые подавляют другие мотивы, основанные на планах. Существуют индивидуальные различия в степени уязвимости к развитию зависимости. Таким образом, профилактика аддиктивного поведения должна быть направлена на полное устранение возможностей для потенциально зависимых людей осуществлять это поведение, а лечение должно быть направлено на ослабление взаимосвязей между сигналами и вознаграждением или сигналами и поведением (например, применение антагонистов, блокирующих подкрепляющее действие наркотика, вызывающего зависимость).
Список литературы
1.Менделевич, В. Д. (2013). Об интерпретации аддиктивного влечения как обсессивно-компульсивного расстройства. Наркология, 12(8), 88–91.
2.Устав ВОЗ. (1948). В: Всемирная Организация Здравоохранения. (https://www.who.int/ru/about/governance/constitution)
3.Харитонова, Е. В., Лопатина, О. Л., Марченко, С. А., Горина, Я. В., Салмина, А. Б. (2020). Основные принципы микродиализа головного мозга и современные возможности его применения в экспериментальной нейробиологии и нейрохимии. Фундаментальная иКлиническая Медицина, 5(3), 85–97.
4.Ahmed, S. H., Koob, G. F. (2005). Transition to drug addiction: Anegative reinforcement model based on an allostatic decrease in reward function. Psychopharmacology, 180(3), 473–490. https://doi.org/10.1007/s00213–005–2180-z