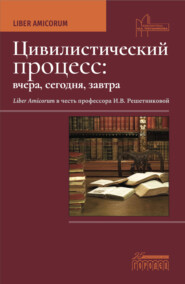По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в аддиктологию
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2. Потеря когнитивного контроля (т. е. нарушение исполнительных функций) над употреблением;
3. Возникновение негативного эмоционального состояния (например, дисфория, тревога, раздражительность) при появлении препятствий к доступу ПАВ или аддиктивному стимулу (Volkow et al., 2016).
Кроме нарушений психических функций и поведения, аддикции характеризуются специфическими биологическими (нейроадаптация) и социальными изменениями. Определение «аддикции» включает следующие ключевые характеристики аддиктивного поведения: 1) повторяющееся; 2) сопровождается выраженной мотивацией, но не способствует выживанию; 3) приобретается в результате повторения данного поведения; и 4) сопряжено с высокой вероятностью причинения непреднамеренного вреда здоровью (West, 2013). Причем вред не ограничивается употреблением или чрезмерным употреблением ПАВ. Характерной чертой аддикции является хроническое течение, при котором происходит цикличная смена периодов рецидива и ремиссии. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует, приводя к выраженным психотическим расстройствам и деменции, инвалидизации и преждевременной смерти.
Три термина – (1) аддикция, (2) расстройства, обусловленные употреблением ПАВ (substance use disorder – DSM-5) и (3) употребление с вредными последствиями и синдром зависимости (МКБ-10 и МКБ-11) – пересекаются. Кроме того, эти термины отражают последовательные изменения клинической тяжести состояния, возникшего в результате употребления ПАВ. Иллюстрации (Рисунок 1.1 и Рисунок 1.2) показывают, что не у всех, кто употребляет «рискованно», есть расстройство употребления ПАВ, так же как не у всех, кто страдает расстройством употребления ПАВ, есть аддикция (Heilig et al., 2021). Следует отметить, что границы между расстройством и аддикцией размыты.
В данной книге мы будем пользоваться термином «аддикция», говоря о зависимости, так как данный термин в определенной степени соотносится с современными диагностическими критериями синдрома зависимости. Исследования подчеркивают важность применения терминологии, которая отражает современные клинические и научные концепции понимания аддикции, с целью снижения стигмы и улучшения доступности профилактики и лечения аддиктивных расстройств (J. F. Kelly, Westerhoff, 2010). Последний аспект более подробно обсуждается в Главе 4 «СТИГМА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛЮДЯМ С АДДИКЦИЕЙ: „ОНИ“ ПРОТИВ „НАС“».
1.2. Концептуальные модели аддикции
Зачем необходимо знать концепции аддикции?
Теоретическое понимание аддикции важно для оказания помощи с целью сохранения здоровья человека и общества. Ниже рассмотрены модели аддикции для общего понимания ее основных элементов, которые могут быть применены для изучения данной проблемы, а также для профилактики и лечения. Различают несколько теорий, в которых рассматриваются разные феномены аддикции. Однако следует отметить, что между диагностическими критериями зависимости и определенным концептуальным феноменом аддикции нет полного соответствия. Некоторые теории описывают симптомы, которые не являются частью действующей диагностической системы и пересекаются с общей психопатологией (например, негативный аффект). Не все диагностические критерии синдрома зависимости соотносятся с клиническими феноменами аддикции или теоретическим концептом. Например, вождение в состоянии опьянения может рассматриваться и как следствие компульсивного употребления, и как проявление общей беспечности и не быть симптомом синдрома зависимости.
В зависимости от природы факторов риска развития аддикции Роберт Уэст (Robert West) предлагает разделить все существующие модели на две основные группы – модели на уровне индивида и модели на уровне популяции (Рисунок 1.3 (West, 2013)).
К моделям на уровне индивида относят:
1. Теории, которые объясняют процессы «автоматической обработки» (ассоциативное обучение, «драйвы», процессы ингибирования, имитации, то есть те процессы, которые не требуют саморефлексии и которые могут быть исследованы на животных);
2. Теории, которые обобщают процессы принятия решений (сознательный выбор поведения после оценки затрат и выгод), включая как рациональный (основанный на анализе и аргументировании), так и предвзятый выбор (подверженный влиянию эмоций, других факторов, искажающих процесс принятия решений);
3. Теории, которые сконцентрированы на изучении различных типов целей (положительное подкрепление, приобретенная потребность или уже существующая потребность);
4. Интегративные теории, объединяющие модели автоматического и рефлексивного выбора;
5. Теории, изучающие процессы изменения;
6. Биологические теории, изучающие нейронные механизмы формирования зависимости.
К моделям на уровне популяции относят: 1) теории социальных сетей, 2) экономические модели, 3) маркетинговые модели и 4) модели «систем».
В данной книге мы не будем подробно описывать все известные теории, их аргументы, ограничения и применение в клинической практике, так как они подробно описаны в книге (West, 2013), но предлагаем рассмотреть основные концептуальные представления аддикции.
1.3. Аддикция как свободный выбор
Одна из острых дискуссий в области наркологии посвящена вопросу, является ли аддиктивное поведение свободным выбором человека или проявлением компульсии (Heilig et al., 2021). В пользу первого утверждения опубликовано несколько книг (Hari, 2015; Heather, N., Segal, 2017; Heyman, 2009; Schaler, 2011), которые вызвали споры между исследователями в области аддиктологии. Дискуссии сосредоточены вокруг различных значений термина «компульсивность». Классическим примером компульсивного поведения является обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), где под компульсией понимается многократное и стереотипное выполнение действий, которые сами по себе могут быть осмысленными, но теряют свою изначальную цель и становятся вредными, когда выполняются в избытке, например, постоянное мытье рук до появления повреждений кожи. Важной чертой является сознательное желание поступить иначе, однако попытки или невыполнение действий приводят к нарастающей тревоге (Stein et al., 2019). Такая трактовка несколько отличается от значения компульсии в теориях аддикции, где компульсивное употребление наркотиков обычно относится к негибкому поведению, ориентированному на употребление ПАВ, которое нечувствительно к неблагоприятным последствиям (Vanderschuren, Everitt, 2004). Например, совместное использование игл для инъекции наркотика, несмотря на знание о рисках заражения инфекционными болезнями, или пренебрежение видами деятельности, которые ранее были важны. Данное явление свойственно не всем пациентам, но отражено в диагностических критериях зависимости. Несмотря на сходство компульсии у пациента с ОКР и пациента с аддикцией, есть важные различия, что требует отказа от «психопатологической интерпретации аддиктивного влечения» (Менделевич, 2013). Например, «компульсивное» употребление ПАВ необязательно сопровождается сознательным желанием воздержаться от такого поведения, и аддиктивное поведение иногда поддается изменениям. Однако такой отход от понимания «аддикции как компульсии» может привести к выводу, что аддикция – это выбор. Возможно, необходимо изменение интерпретации «компульсии» применимо к аддикции, так как на выбор употребления или воздержания от употребления ПАВ влияют такие факторы, как, например, наличие альтернативного подкрепления и состояние организма. Например, первое употребление – это выбор, однако данному выбору могут способствовать доступность алкоголя, скука или социальное давление. Для иллюстрации того, что внешние факторы могут влиять на выбор, можно рассмотреть пассивное курение как поведение выбора. В большинстве случаев можно оградить себя от курящего рядом человека, однако часто ситуация не позволяет это сделать в силу разных обстоятельств (например, на совещании в кабинете курящего директора). Осознанный выбор редко приводит к частому и регулярному употреблению, и в большинстве случаев выбор подвержен влиянию многих факторов.
Важность роли альтернативных подкреплений и состояния организма подтверждается результатами экспериментов на животных. В 1940 году обнаружено, что шимпанзе обычно выбирают банан, а не дозу морфина, однако при физической зависимости и в состоянии синдрома отмены их предпочтения в выборе менялись на противоположные (Spragg, 1940). Позднее было показано, что крысы, обученные самовведению героина, с готовностью отказываются от наркотика, если им в качестве альтернативы предлагался раствор сахарина (Lenoir et al., 2013). Более того, эффективность подходов к лечению, при котором систематически предъявляются стимулы награды за воздержание от употребления (например, денежная оплата за отрицательный тест мочи на наркотик) (Higgins et al., 2004), поддерживает идею о том, что выбор поведения у пациентов с зависимостями чувствителен к подкреплению. Таким образом, способность выбирать употребление ПАВ – это не феномен «все или ничего», а скорее вероятность, на которую влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних, и их взаимодействия.
Понимание аддикции как выбора приводит к рассмотрению аддикции как оправдания желания получить «кайф», почувствовать эйфорию. Например, в рамках экономической теории рациональной зависимости (Becker, Murphy, 1988) для объяснения аддикции применяется теория субъективной ожидаемой полезности (Subjective expected utility). Полезность в данной теории понимается скорее как привлекательность. Согласно этой теории, люди стремятся максимизировать ожидаемую пользу, оценивая последствия альтернативных вариантов поведения с точки зрения их «полезности», а затем взвешивая «полезность» по вероятности ее наступления для каждого из вариантов (Edwards, 1961). В итоге люди выбирают наиболее «полезный вариант» поведения. Так, индивиды с аддикцией выбирают образ жизни, исходя из собственной оценки «полезности» разного поведения, где продолжение употребления связано с наиболее «выигрышным» поведением, которое приводит к личностно значимым «полезным» результатам. Например, удовольствие, чувство принадлежности к подгруппе, избавление от тревоги по степени «полезности» оценивается выше, чем прекращение употребления или, например, снижение риска преждевременной смерти. Таким образом, предполагается, что индивид с аддикцией последовательно и сознательно (рационально) неправильно оценивает «полезность» отдаленных последствий поведения. В рамках теории рациональной зависимости вводится дополнительное понятие «дисконтированной полезности», когда человек с аддикцией последовательно и сознательно (рационально) выбирает действия с более низкой полезностью по отношению к действиям, полезность которых выше в отдаленном будущем. Предположения этой теории противоречат результатам современных исследований аддикции. Более того, она не показала практическую ценность для прогнозирования развития аддикции, однако часто цитируется «корыстными рационалистами» из индустрии производства табака и алкоголя, утверждающими, что государство должно воздерживаться от контроля рынка легальных наркотиков. Очевидно, что большинство людей, страдающих аддикцией, сохраняют способность делать более выгодный выбор большую часть времени, однако также очевидно, что по мере прогрессирования аддикции возрастает вероятность выбора поведения, который нанесет ущерб самому человеку или может привести к смерти, даже когда доступны более благоприятные варианты.
Другой теорией, в которой аддикция рассматривается как выбор индивида, является «теория самолечения». В соответствии с ней мотивом употребления ПАВ является не желание получить удовольствие, а потребность облегчить страдания, возникшие в результате генетической детерминированности, раннего негативного жизненного опыта или взаимодействия внешних и внутренних факторов (Khantzian, 1997). Таким образом, употребление ПАВ в краткосрочной перспективе приводит к «анестезии» болезненных переживаний, отвлечению от них, снижению выраженности негативного аффекта или психологического дистресса или возникновению положительного аффекта. Согласно данной теории, человек, экспериментируя с различными ПАВ, находит то ПАВ, которое приводит к желаемому эффекту, меняя или облегчая те эмоциональные состояния индивида, которые для него являются болезненными или нежелательными. Например, опиоиды снижают выраженность гнева, ярости, ажитации; депрессанты (алкоголь, бензодиазепины, барбитураты) снижают тревожность, напряжение, позволяют расслабиться; стимуляторы дают энергию у людей с депрессивными симптомами, усиливают гипоманиакальные симптомы, улучшают концентрацию внимания среди людей с СДВГ. Гипотеза самолечения основана на клинической оценке пациентов и является «интуитивно привлекательной» теорией аддикции. Данная теория подчеркивает важность биологической предрасположенности и социальных факторов в развитии аддикции, а также подтверждается высокой распространенностью коморбидных состояний (см. Главу 6.1. «КОМОРБИДНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ И АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ»). Теория когнитивной модели аддикции является продолжением теории самолечения.
Доказательства того, что способность к выгодному выбору сохраняется при зависимости, а также клиническая очевидность теории самолечения являются весомыми аргументами против узкой концепции термина «компульсивности» как жесткого, неизменного поведения. Однако это не является аргументом против аддикции как варианта компульсивного поведения. Важнейший вопрос заключается в том, является ли аддиктивное поведение результатом работы здорового мозга, нормально реагирующего на внешние обстоятельства, или же это патология нейрональных сетей, которая способствует вероятности дезадаптивного выбора. Чтобы решить этот вопрос, важно понять, что способность выбирать – это не феномен «все или ничего», а скорее вопрос о вероятностях выбора того или иного поведения, основанного на многочисленных когнитивных способностях и взаимодействии человека с окружающей средой. Без сомнений, при становлении аддикции выбор человека играет определенную роль, однако роль выбора в развитии аддикции является спорным вопросом (выбирает ли человек быть зависимым?).
1.4. Аддикция как результат противоположных (противоборствующих или оппонентных) аффективных процессов
Теория оппонентного процесса или теория противоположного последействия была впервые предложена в 1878 году Эвальдом Херингом (Ewald Hering), немецким физиологом, а затем расширена Ричардом Соломоном (Richard L. Solomon) и Джоном Корбитом (John D. Corbit). Ричард Соломон разработал мотивационную теорию, основанную на оппонентных (противоположных) процессах. Согласно данной теории, предполагается, что за каждым процессом, имеющим аффективный (или эмоциональный) баланс (т. е. приятные или неприятные ощущения), следует вторичный, «оппонентный процесс» с «обратным знаком», т. е. последействие противоположного характера. Например, в случае, если первичный процесс вызывает приятные (гедонистические) ощущения, далее будут следовать неприятные ощущения, и наоборот, если первичное ощущение неприятно, то за ним следует облегчение (Solomon, Corbit, 1974). Этот вторичный процесс начинается после того, как первичный процесс затихает. При повторном воздействии первичный процесс ослабевает, а интенсивность «процесса-соперника» усиливается до момента нейтрализации ощущений первичного процесса.
Согласно данной теории аддикция является результатом противоположных процессов – удовольствия от употребления ПАВ и негативных эмоциональных симптомов, связанных с синдромом отмены при прекращении приема ПАВ. В начале употребления ПАВ наблюдаются высокий уровень удовольствия и слабо выраженные симптомы отмены. Однако со временем, когда уровень удовольствия от употребления наркотика снижается, уровень симптомов отмены возрастает, что создает мотивацию для продолжения употребления наркотика, несмотря на отсутствие удовольствия от него, но с целью уменьшения неприятных ощущений в условиях отсутствия ПАВ (Solomon, Corbit, 1974). Таким образом, изначально позитивная мотивация превращается в негативную, а употребление ради удовольствия сменяется употреблением ради облегчения состояния. Эта теория была подтверждена в исследовании, проведенном Р. Соломоном вместе с Дж. Д. Корбитом в 1974 г., в котором исследователи анализировали эмоции парашютистов. Было обнаружено, что новички испытывают больший страх, чем более опытные парашютисты, и меньшее удовольствие при приземлении (Solomon, Corbit, 1974). Однако по мере того как парашютисты продолжали прыгать, удовольствие увеличивалось, а страх уменьшался. Данная работа является важной, так как показывает несостоятельность экономической модели, объясняющей употребление ПАВ как выбор более «выгодного» поведения. Таким образом, полученные Соломоном результаты указали, что аддикция – это более сложный феномен, чем считалось, и удовольствие от ПАВ становится менее важным во время перехода от употребления к аддикции.
Рисунок 1.4. Иллюстрация теории оппонентного процесса (Robinson & Berridge, 2003a)
На Рисунке 1.4 представлена модель оппонентного процесса формирования аддикции, адаптированная Т. Робинсоном и К. Берриджем на основании работ Solomon 1977 и Solomon, Corbit 1973 (Robinson, Berridge, 2003a). На левой половине рисунка показаны два процесса: a-процесс – это аффективная гедонистическая реакция на стимул (на рисунке – ПАВ), который, в свою очередь, с целью сохранения гомеостаза и приглушения положительного аффекта вызывает противоположный b-процесс (негативный аффект). Оба процесса складываются вместе, вызывая первоначальное приятное состояние А (эйфория), за которым следует противоположное неприятное состояние B. Видно, что величина и продолжительность изначально приятного состояния A больше относительно следующего за ним состояния В. Однако при повторном употреблении наркотиков и в случае развития зависимости (правая сторона рисунка) оппонентный b-процесс увеличивается по величине и продолжительности, что приводит к переживанию B-состояния, в котором доминируют неприятные симптомы, связанные с воздержанием от употребления, например, синдромом отмены.
Вместе с тем, данная теория также не полностью объясняет природу зависимости, так как облегчение негативных симптомов не объясняет компульсивный поиск наркотиков и тот факт, что склонность к рецидиву сохраняется длительное время после облегчения негативного аффекта. Во-первых, данная теория не объясняет, почему синдром отмены является менее сильной мотивацией для употребления наркотиков по сравнению с позитивными стимулами, что было показано в работах, изучающих эффекты морфина, налтрексона (антагонист опиоидных рецепторов, который способен вызвать синдром отмены при физической зависимости к опиоидам) и налорфина на животных (Stewart, Wise, 1992). Кроме того, острый период синдрома отмены длится около нескольких дней после прекращения приема наркотика, однако стремление к возобновлению употребления сохраняется от недель до месяцев (Grimm et al., 2001; Shalev et al., 2001). Результаты данного исследования подтверждаются сообщениями людей с аддикцией о том, что болезненные переживания, связанные с синдромом отмены, сильно отличаются от ощущения влечения к наркотику, хотя оба ведут к поведению, направленному на поиск и употребление ПАВ. Так, пациент объясняет разницу между влечением и синдромом отмены: «Нет, док, тяга – это когда ты хочешь этого – хочешь так сильно, что почти чувствуешь вкус, но ты не болен… болен – значит, болен» (Childress et al., 1988). Во-вторых, данная теория не объясняет природу частого рецидива у пациентов, которые долгое время воздерживаются от употребления, когда b-процесс должен был бы исчезнуть. Более подробную информацию о развитии теории оппонентных процессов можно найти в Главе 3 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И ФАРМАКОЛОГИЯ ПАВ».
1.5. Аддикция как импульсивное поведение и нарушение самоконтроля
Теории самоконтроля отражают конфликт между автоматическими и рефлексивными процессами, рассмотренными выше. Нарушение контроля поведения является центральной темой в современных теориях аддикции, особенно в тех, которые основаны на результатах, полученных в нейробиологических исследованиях. Согласно теории нарушения самоконтроля аддикция является следствием неспособности стратегий, навыков и самоконтроля противостоять импульсам и желаниям, лежащим в основе аддиктивного поведения. Данная неспособность может быть частично объяснена «истощением эго». Причем нарушение функции контроля может происходить в силу очень интенсивной мотивационной силы, способствующей аддиктивному поведению, но также может быть связано с нарушением механизмов, ведущих к торможению (ингибированию) аддиктивного поведения (т. е. поведения, направленного на получение «награды») (West, 2013). К примерам теорий, рассматривающих аддикцию как нарушение контроля, относятся теория дисрегуляции ингибирования, теория личности Клонингера и когнитивная модель влечения.
Теория дисрегуляции ингибирования предполагает, что в основе развития аддикции лежит нарушение механизмов, необходимых для контроля импульсов. Аргументами в пользу данной теории являются данные о том, что расстройства контроля импульсивного поведения (impulse control disorder) являются важным фактором риска развития аддикции (Perry, Carroll, 2008). Кроме того, было показано, что мозговые структуры (например, орбитофронтальная кора), вовлеченные в импульсный контроль, также задействованы в формировании аддикции (Goldstein, Volkow, 2002).
Согласно трехмерной теории личности К. Р. Клонингера, которая является частью «единой биосоциальной теории личности» (Cloninger, 1986, 1987), в основе темперамента лежат три основных паттерна непроизвольного (автоматического) эмоционального реагирования на переживания: система активации поведения (поиск новизны), система торможения поведенческой активности (предотвращение вреда / избегание опасности) и зависимость от вознаграждения (индикатор привязанности). Клод Роберт Клонингер также предполагал, что различия в паттернах объясняются генетическими, нейромедиаторными и нейроанатомическими особенностями. Согласно данной теории, аддиктивная личность рассматривается как незрелая и конформная, а также склонная к поиску новых ситуаций и ощущений.
1.6. Аддикция как приобретенное поведение в процессе научения
Ряд теорий исходит из предположения, что аддикция – это приобретенное поведение, в формирование которого вовлечен процесс научения, т. е. процесс изменения поведения в результате практики при взаимодействии с окружающей средой и получением сильного положительного или отрицательного «подкрепления» (приятных или болевых стимулов). Процесс научения следует отличать от процесса обучения. Научение является неосознанным автоматическим процессом, а обучение – сознательный и целенаправленный способ приобретения или передачи опыта и знаний. Научение относится к процессам автоматической обработки информации, которые по своему определению не требуют саморефлексии и принятия осознанных решений. Процессы, лежащие в основе научения, могут быть исследованы на животных с помощью предъявления стимулов «награды» (например, еда) или «наказания» (например, болевые стимулы): ассоциативное обучение, «драйвы» (разные состояния мотивации, которые не основаны на рефлексии, – «хочу», «надо», влечение, импульсы, сильное желание), процессы ингибирования и имитация (подражание).
Выделяют несколько теорий научения: оперантное научение, классическое (Павловское) обусловливание, абберантное научение, сенситизация, теория поведенческого импульса и инерции.
Согласно теории оперантного научения (обусловливания) предполагается, что в присутствии определенных условий или сигналов (например, включение света) опыт прошлого положительного или отрицательного «подкрепления» в ответ на определенное поведение (например, подкрепление в виде пищи или воздействие электрическим током, если животное встает на задние лапы) увеличивает или уменьшает вероятность возникновения поведения, от которого оно зависит (Mook, 1995). То есть научение реализуется посредством влияния последствий поведения на само поведение. Положительное подкрепление – это процесс нейроадаптации, при котором увеличивается вероятность повторения поведения в ответ на определенный стимул, когда нужное поведение сопровождается вознаграждением. Например, если после включения света животное вставало на задние лапы и после этого ему давали пищу, то вероятность того, что животное будет вставать на задние лапы каждый раз после включения света, увеличивается. Также, если на вечеринке у человека был положительный опыт после употребления кокаина, это повышает вероятность повторения данного действия в будущем. Напротив, отрицательное подкрепление – это процесс нейроадаптации, при котором уменьшается частота повторения поведения или при котором формируется поведение, направленное на прекращение или избегание аверсивного стимула. Например, если вместо еды после вставания на задние лапы животное получало разряд электрического тока, то включение света снижает вероятность того, что животное встанет на задние лапы. Или возникающий синдром отмены опиоидов приводит к тому, что человек с зависимостью учится искать и употреблять опиоиды, чтобы предотвратить синдром отмены или облегчить его. Процесс оперантного научения является автоматическим, так как не зависит от количества усилий и выгоды от выполнения требуемого поведения. Стимул вызывает ассоциацию с наградой, что в итоге вызывает поведение, направленное на получение награды.
Теория оперантного научения тесно взаимосвязана с классической теорией Павлова об условном рефлексе, так как в их основе лежит ассоциативное научение. При этом оперантное обусловливание предполагает формирование ассоциаций между сигналами-подсказками, поведенческими реакциями и полученным результатом через опыт подкрепления. В классическом обусловливании формируются ассоциации между стимулами и рефлекторными реакциями в силу того, что нейтральные стимулы-подсказки ассоциированы с мотивационно или эмоционально значимыми стимулами. Например, ощущение дыма в горле, зрительные, тактильные ощущения, связанные с курением, являются слабо мотивирующими стимулами, но они могут обрести мотивационную силу при связи с более мощным подкреплением – ощущением эйфории при действии никотина.
Теория стимульной сенситизации (повышение ответа/гиперреактивность на стимул) к награде объясняет формирование аддикции следующим образом: многократное самостоятельное употребление ПАВ приводит к нейроадаптации, при которой поведение в ответ на повторяющиеся стимулы все меньше контролируется ожидаемым удовольствием («liking») и все больше побудительной значимостью стимула («incentive salience»), субъективным проявлением которой является желание («wanting») (см. Рисунок 1.5) Согласно данной теории, ценность более важна, чем польза.
Важно не путать сенситизацию с толерантностью. Толерантность – это состояние, при котором увеличивается количество употребляемого ПАВ для достижения прежнего эффекта (толерантность специфична к эффектам). Процесс сенситизации зависит от ряда индивидуальных факторов, например, гены, половые гормоны, гормоны стресса, травматический опыт в прошлом, паттерны употребления, кросс-сенситизация (сенситизация к одному ПАВ приводит к сенситизации к другому ПАВ). Кроме того, условия окружающей среды и социальные факторы могут влиять на развитие сенситизации.
Теория поведенческого импульса и инерции относится к довольно новым теориям, в ее основе лежит предположение, что импульс поведения отражает взаимосвязь между стимулом (условия) и подкреплением, а не ответом и подкреплением. Таким образом, контекст или условия играют большую роль в подкреплении поведения, чем в теории классического или оперантного подкрепления.
Когнитивная теория влечения предполагает, что влечение является наученной автоматической поведенческой реакцией (неосознанный приобретенный навык/привычка), при которой предполагается вознаграждение (Tiffany, 1990).
Теория аберрантного (отклоняющегося от нормального) научения основана на предположении о том, что аддикция развивается в результате перехода от целенаправленного произвольного поведения к формированию привычки, автоматизированного рефлекса по типу «стимул – реакция». В основе «автоматизации» лежит процесс ассоциативного патологически усиленного научения. При этом у человека с наркоманией вырабатываются связи между специфическими стимулами (например, место употребления наркотика) и состояниями, которые развиваются при приеме наркотика (например, эйфория) (Robbins, Everitt, 1999; Robinson, Berridge, 2003a). Причем этот механизм имеет нейробиологическую основу, а именно нейроанатомические и функциональные взаимосвязи между системами, участвующими в развитии зависимости (прилежащее ядро перегородки), и системами, участвующими в процессах научения (амигдала, гиппокамп, орбитофронтальная кора, области стриатума). В исследованиях было показано, что при предъявлении атрибутов, связанных с употреблением кокаина, активируется несколько областей мозга, включая амигдалу, которая связана с субъективным ощущением тяги/влечения (Breiter et al., 1997; S. Grant et al., 1996). В результате такого патологического научения аддиктивное поведение сохраняется даже после длительного отсутствия удовольствия от употребления ПАВ, что приводит к формированию поведения, направленного на поиск субъективных ощущений, которые первоначально были вызваны ПАВ (Szalavitz, 2016).
Однако, теории, объясняющие аддикцию как привычку, то есть как автоматизированное поведение, не требующее сознательного внимания и выработанное в ходе научения, полностью не проясняют механизмы аддикции. Привычка не имеет характера мотивационной компульсии, которая характерна для аддиктивного поведения: «Вы бы не пожертвовали всем, чтобы завязать шнурок на ботинке» (Richard Saitz, презентация, 2019). Таким образом, следующим шагом в развитии теории аддикции стало изучение биологических механизмов активации системы мотивации мозга при воздействии стимулов, связанных с ПАВ (Robinson, Berridge, 2003b).
Более подробно теории, основанные на принципах научения и обучения, описаны в Главе 3 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И ФАРМАКОЛОГИЯ ПАВ».
1.7. Биологическая теория аддикции
В основе биомедицинских теорий лежат результаты экспериментальных исследований на животных, свидетельствующих об участии дофаминергического пути в ответе на натуральные и фармакологические стимулы награды (Ahmed, Koob, 2005; Cummings, 2000; Di Chiara, 2002; Di Chiara et al., 2004; Franken et al., 2005; Goldstein, Volkow, 2002; Kim et al., 2011; Kovacic, 2005; Volkow et al., 2002), а также вовлечении префронтальной коры в регуляцию аддиктивного поведения (Goldstein et al., 2004; Peters et al., 2013). Таким образом, активизация одних и тех же структур головного мозга в ответ на натуральные стимулы и в ответ на воздействие ПАВ показывает, что механизм формирования аддикции затрагивает систему, которая обусловливает поведение, направленное на выживание. Причем интенсивность влияния ПАВ на дофаминергическую систему более выраженная, чем у натуральных стимулов. На рисунках ниже показаны результаты исследований с применением методики микродиализа (метод получения и анализа состава внеклеточной жидкости из ткани или органа в процессе его функционирования (Харитонова и др., 2020)) для мониторинга передачи дофамина в прилежащем ядре перегородки (NAcc) во время еды (Рисунок 1.6), секса (Рисунок 1.7) и введения амфетамина (Рисунок 1.8).
Джадсон Брюэр и Марк Потенца дали одно из наиболее полных описаний нейронной схемы, связанной с зависимостью, а именно с процессом обусловливания (J. A. Brewer, Potenza, 2008). Задействованные в этом процессе структуры головного мозга и их функции перечислены в Таблице 1.1, а их взаимосвязи проиллюстрированы на Рисунке 1.9 (Brewer, Potenza, 2008).
По мере научения и развития зависимости изменения в перечисленных выше областях головного мозга обусловливают аддиктивное поведение. В аддикции важную роль играет прилежащее ядро (NAcc), которое состоит из оболочки и ядра. Предполагается, что оболочка NAcc играет важную роль в модуляции мотивационных стимулов, в то время как ядро участвует в проявлении выученных форм поведения, в ответ на стимулы, которые предваряют мотивационно значимые события, воспринимаемые как приятные. Вентральная область покрышки (VTA), на которую проецируются дофаминергические связи с миндалиной, NAcc и префронтальной корой (PFC, которая включает OFC и ACC), способствует научению ассоциации с мотивационно значимыми событиями посредством резкого выброса дофамина. Дофаминергические нейроны тормозятся, вероятно, через дорсальный медиальный таламус, когда ожидаемое вознаграждение не происходит.