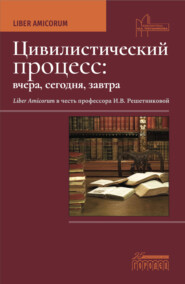По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в аддиктологию
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Количество людей, употребляющих алкоголь, в настоящее время – это показатель, который отражает долю населения в возрасте 15 лет и старше, которые употребляли алкогольные напитки в течение последних 12 месяцев. В мире наблюдается снижение доли людей, употребляющих алкоголь, за последние 12 месяцев, с 48 % в 2000 г. до 43 % в 2016 г. (WHO, 2018). В 2016 г. в России число лиц, употребляющих алкоголь, составило 58 % (61 % среди мужчин и 55 % среди женщин). Среди них для 61 % лиц, употребляющих алкоголь (79 % среди мужчин и 44 % среди женщин), характерны эпизоды тяжелого пьянства (определяется как употребление 60 грамм чистого алкоголя и более в течение одного дня за последние 30 дней).
Общее потребление алкоголя на душу населения (alcohol per capita consumption [APC]) – общее (зарегистрированное плюс предполагаемое неучтенное) потребление алкоголя на душу населения (лиц в возрасте 15 лет и старше) в течение календарного года в литрах чистого алкоголя, скорректированное на потребление туристами. Показатель APC в мире составляет 6,4 литра чистого алкоголя в год (или 13,9 грамма в день) (World Health Organization, 2018). В настоящее время в России наблюдается сокращение уровня употребления алкоголя, с 18,7 литра в 2005 г. до 11,7 литра в 2016 г., что связано с существенными изменениями в антиалкогольной политике и введением научно обоснованных мер по борьбе с алкоголизмом (таких как запрет продажи алкоголя в ночное время, повышение минимальных цен на его продажу) (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019). Однако показатель 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения все еще остается достаточно высоким, и он выше, чем средний показатель в Европе (9,8 литра) (Рисунок 2.1) (WHO, 2019). По последним опубликованным данным, в России в 2019 г. APC составил 10,4 литра (WHO, 2021).
Б) Показатели заболеваемости расстройствами, связанными с употреблением алкоголя
В 2016 году в мире 283 млн человек в возрасте 15 лет и старше страдали синдромом зависимости от алкоголя (СЗА) (то есть 5,1 % взрослого населения) (WHO, 2018). Данные об обращаемости за наркологическим лечением в государственный сектор в РФ демонстрируют, что большинство (около 78 %) зарегистрированных пациентов – лица с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (на основании критериев МКБ-10) (Киржанова и др., 2021). В течение последних 20 лет продолжается устойчивое снижение показателей общей и первичной заболеваемости наркологическими расстройствами. Так, с 2000 по 2017 г. общая заболеваемость СЗА (включая алкогольные психозы) снизилась на 37 %, а показатель распространенности алкогольных психозов и пагубного употребления алкоголя – на 54 % (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019). Первичная заболеваемость также снизилась: для СЗА (включая алкогольные психозы) – на 57 %, для алкогольных психозов – на 69 %, для пагубного употребления – на 67 %. В 2020 г. общая заболеваемость СЗА (включая алкогольные психозы) составила 810 на 100 тыс. населения (0,8 % общей численности населения) (Киржанова и др., 2021). Всего в 2020 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью по поводу алкогольных расстройств 89 455 пациентов, или 61 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с 2016 г. в 2020 г. распространенность алкогольных расстройств снизилась на 27 %, а показатель первичной обращаемости – на 46 %.
Кроме данных государственной статистики, в недавнее время появились результаты исследования адаптации и валидизации русскоязычной версии скринингового инструмента для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя,—Теста RUS-AUDIT (англ. The Russian Alcohol Use Disorder Identification Test), предоставляющего возможность оценить распространенность расстройств, связанных с употреблением алкоголя (опасное, пагубное употребление алкоголя и возможная алкогольная зависимость), вне наркологических специализированных медицинских служб. По данным кросс-секционного исследования (2022 участника), проведенного в 21 поликлиническом учреждении в 8 федеральных округах России в 2019–2020 гг., было продемонстрировано, что распространенность синдрома зависимости от алкоголя и расстройств, связанных с употреблением алкоголя, за последние 12 месяцев составляет 7 % (12 % среди мужчин и 3 % среди женщин) и 12 % (20 % среди мужчин и 6 % среди женщин), соответственно (Rehm et al., 2022). Наиболее высокие показатели распространенности расстройств, связанных с употреблением алкоголя, среди женщин наблюдались в возрастной группе 18–29 лет, тогда как в более старших возрастных группах распространенность снижалась (Rehm et al., 2022), что сходно с наблюдениями в США (B. F. Grant et al., 2015). Среди мужчин наибольшая распространенность была в группе 45–59 лет и в более старших группах (Rehm et al., 2022), что сходно с паттернами употребления в других странах Центральной и Восточной Европы (Rehm et al., 2005).
2.3.2. Табак
На основании опроса взрослого населения в России (Global Adult Tobacco Survey [GATS]) выявлено, что в 2016 г. 36,4 млн человек употребляли табак (из них 36,3 млн курят), 3,3 млн используют кальян и 4,2 млн – электронные сигареты (WHO Regional Office for Europe, 2020). Электронные сигареты хотя бы один раз в жизни пробовали 80 % взрослого населения и 91 % в возрастной группе 15–24 лет. В настоящее время используют электронные сигареты 3,5 % взрослого населения и 9,7 % среди популяции 15–24 лет. Около 56 % курильщиков планируют или задумываются о том, чтобы бросить курить, и 35 % пытались бросить в течение последних 12 месяцев. Исследование GATS в России показало, что в период между 2009 и 2016 гг. выявлено значительное снижение употребления табака. Такая же тенденция отмечена и в отношении пассивного курения, наряду с увеличением успешных попыток отказа от курения, что также связано с введением мер на уровне законодательства в 2008 г. В 2013 г. был принят Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табакокурения, включающий 100 %-ный запрет на курение в публичных местах, повышение налогов на табачные изделия, запрет рекламы, антитабачные кампании в медиапространстве, усиление запрета на продажу табачных изделий лицам младше 18 лет. Однако, несмотря на положительную тенденцию, более 30 % населения РФ продолжает употребление табака.
В статье Школьникова (2020) представлены результаты анализа обобщенных данных о динамике курения в РФ, полученных из Российского лонгитюдного мониторингового исследования, проведенного с 1996 по 2016 г., и 11 других опросов, датируемых 1975–2017 гг., а также из двух сравнительных опросов, проведенных в Англии и США (Shkolnikov et al., 2020). Выяснилось, что показатель распространенности курения с середины 1970-х до середины 2000-х гг. сохранялся на уровне 60 % среди мужчин, а затем постепенно снижался до 48 %, тогда как среди женщин данный показатель подвергался довольно значимым изменениям, составляя от 9 % до 24 %.
2.3.3. Наркотики
А) Показатели употребления наркотиков
Согласно Всемирному докладу о наркотиках (англ. World Drug Report [WRD]) УНП ООН в 2020 г. в мире насчитывалось около 275 млн человек, употреблявших наркотики хотя бы один раз в течение прошлого года (в 2010 г. – 226 млн). Отчасти, данное увеличение на 22 % объясняется ростом численности населения на 10 %. По данным Государственного антинаркотического комитета (ГАК), в России в 2020 г. численность лиц, постоянно или эпизодически употреблявших наркотики, оценивалась в 1,8 млн человек, а лиц, хотя бы раз употреблявших ПАВ, – в 7,6 млн человек (Государственный антинаркотический комитет, 2020). По сравнению с 2019 г. можно отметить тенденцию к снижению по упомянутым выше показателям (в 2019 г. 1,9 млн человек употребляли постоянно или эпизодически и 8,5 млн – хотя бы однократно).
Б) Показатели заболеваемости расстройствами, обусловленными употреблением наркотиков
Наряду с увеличением уровня употребления наркотиков в мире в течение предыдущего десятилетия, в целом наблюдается тенденция увеличения показателя заболеваемости ППР в результате употребления наркотиков: число пациентов выросло на 22 %, с 27 млн в 2010 г. до 36 млн в 2019 г., или от 0,6 % до 0,7 % от общей численности населения (United Nations publication, 2021). По данным ГАК, в РФ в 2020 году зарегистрировано 381 505 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков (Государственный антинаркотический комитет, 2020). По данным ННЦ наркологии, среди обратившихся за наркологической помощью в России в 2020 г. доля пациентов с наркоманией и пагубным употреблением наркотиков составляет 21,6 % от числа всех зарегистрированных пациентов (224 117 пациентов) (Киржанова и др., 2021). Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотиков, в 2020 г. в РФ составил 260 на 100 тыс. среднегодового населения, из них 153 на 100 тыс. – пациенты с «синдромом зависимости» (СЗ), а остальные – пациенты с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков», при этом из общего числа пациентов доля потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) составила 113 на 100 тыс. человек (Государственный антинаркотический комитет, 2020). В сравнении с 2016 г., в 2020 г. наблюдается снижение показателей общей заболеваемости: показатели СЗ от наркотиков и пагубное употребление снизились на 23 % каждый, а доля ПИН – сократилась на 37 %, что отражает изменения в структуре наркопотребления, в частности, снижение употребления опиоидов (на 41 %).
В государственной статистике в России оценивается распространенность следующих наркотиков: опиоидов, каннабиноидов, кокаина, психостимуляторов, других наркотиков и их сочетаний. Наибольшую долю (54 %) составляет диагностическая группа «синдром зависимости от опиоидов» (82 на 100 тыс.), на втором месте – «синдром зависимости от употребления других наркотиков и их сочетаний» (39 на 100 тыс.), затем – «синдром зависимости от каннабиноидов» (18 на 100 тыс. населения) и «синдром зависимости от психостимуляторов» (13 на 100 тыс.). Доля пациентов, обратившихся за наркологической помощью в связи с употреблением кокаина, составила 0,05 на 100 тыс.
Несмотря на то что специалисты наркологических организаций выделяют проблему активного употребления новых видов наркотиков (дизайнерские/синтетические наркотики), в государственной статистике не приводится данных о масштабах данной проблемы. Известны единичные исследовательские проекты, направленные на изучение распространенности употребления синтетических психоактивных веществ посредством проведения химико-токсикологических методов. Например, в Республике Башкортостан для оценки динамики употребления ПАВ в 2015 г. проводилось тестирование мочи на содержание наркотиков у пациентов наркологического диспансера и граждан, проходивших медицинское освидетельствование с целью определения состояния опьянения (МОСО), обусловленного приемом ПАВ (n = 3458). В результате следы синтетических наркотиков в моче были обнаружены более чем у половины всех обследованных, причем из них наиболее популярными наркотиками были синтетические катиноны, в частности альфа-пирролидиновалерофенона (а-PVP) (Юлдашев и др., 2016). Другое исследование лиц, проходящих МОСО, в Москве за период 2014–2018 гг. выявило от 16 до 18 тыс. положительных проб на наркотики и иные ПАВ в моче и крови. В 2018 г. большая доля приходилась на другие ПАВ и их сочетания (27 %), растительные каннабиноиды (24 %), лекарственные препараты, включая барбитураты (23 %), опиоиды (14 %), амфетамины (6 %), синтетические катиноны (5 %) (Бурцев и др., 2019). В Иркутске в ходе оценки статистических документов станции скорой медицинской помощи и анализов мочи на наркотики с 2006 по 2015 г. выявлено, что из числа всех вызовов по поводу острого отравления 14 % были связаны с отравлением наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами), наибольшая группа была представлена пациентами с отравлением опиатами и опиоидами (78 %) (Зобнин и др., 2016).
Показатель первичной заболеваемости наркоманией (включая синдром зависимости и пагубное употребление) с 2009 по 2020 г. сократился в два раза и составил 25 пациентов на 100 тыс. населения. Причем значимое снижение первичной заболеваемости наблюдается среди тех, кто употребляет опиоиды и каннабиноиды (снижение на 43 % и 35 % соответственно), тогда как доля лиц, употребляющих психостимуляторы, а также другие наркотики и их сочетания, относительно стабильна (11 % и 3 % соответственно).
Таким образом, на основании сведений государственной наркологической статистики в РФ наблюдается снижение уровня употребления ПАВ и сокращение общей заболеваемости расстройствами, связанными с употреблением различных ПАВ – алкоголя, табака и наркотиков – с 2000 до 2020 г. С одной стороны, данное наблюдение может объясняться эффективным действием профилактических программ и изменениями в правовом поле, что особенно наглядно показано в отношении изменений показателей употребления алкоголя в РФ за последнее десятилетие. С другой стороны, высокая латентность, а также низкая выявляемость и обращаемость в связи с употреблением «новых» наркотиков затрудняют оценку масштабов употребления. Частота отравлений, связанных с употреблением новых ПАВ, и результаты химико-токсикологических анализов биологических образцов являются лишь косвенными признаками широкого распространения синтетических наркотиков, но не позволяют оценить показатели заболеваемости и их динамику (положительный тест мочи на содержание наркотика не является установленным наркологическим диагнозом). Для оценки тенденций необходимо проведение социологических опросов населения и других эпидемиологических исследований, проводимых на национальном уровне.
2.4. Показатели ремиссии: воздержание от употребления ПАВ и выздоровление
В исследованиях среди пациентов, достигших ремиссии, было продемонстрировано, что многие меняют свое поведение в отношении употребления ПАВ без обращения за специализированной медицинской помощью (Klingemann et al., 2010). Такие ремиссии называются спонтанными. В этих исследованиях под ремиссией подразумевается либо воздержание от употребления ПАВ в течение продолжительного периода времени (как правило, в течение 1 года и более), либо отсутствие соответствия диагностическим критериям зависимости, подразумевая, что полный отказ от употребления не является обязательным. Ремиссия, достигнутая в результате лечения, будет расцениваться как терапевтическая. Однако стоит отметить, что лишь небольшой процент людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, сообщают об обращении за помощью, включая группы взаимопомощи, программы помощи сотрудникам, стационарные и амбулаторные программы, реабилитационные центры, кризисные центры и центры детоксикации (Grant et al., 2016; Vetrova et al., 2021). Соотношение лиц, обратившихся за лечением или участвующих в программах взаимопомощи (например, 12-шаговые программы), составило 7,7 % среди лиц с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, установленными в течение последних 12 месяцев, и 19,8 % среди тех, у кого расстройство было диагностировано когда-либо в течение жизни (Grant et al., 2016). Среди лиц с расстройством, связанным с употреблением наркотиков, которое было установлено за последние 12 месяцев, этот показатель составил менее 20 %, и менее трети среди лиц с наркоманией, установленной в течение жизни. Лечение чаще получают лица со средней и тяжелой степенью тяжести расстройств, связанных с употреблением ПАВ (Grant et al., 2015, 2016). Согласно государственной статистике и исследованиям, проведенным в России, количество пациентов, обратившихся за помощью и, соответственно, находящихся в терапевтической ремиссии, относительно небольшое, тогда как данные о спонтанной ремиссии не представлены. Так, в РФ в течение 2020 г. общее число пациентов наркологического профиля, находящихся в ремиссии, уменьшилось на 1,6 %, однако несколько выросла доля пациентов, находящихся в ремиссии более 1 года, которая составила 24,8 на 100 больных среднегодового контингента (Киржанова и др., 2021). В систематическом обзоре и мета-анализе, посвященном оценке частоты ремиссии, которая определяется как отсутствие соответствия диагностическим критериям злоупотребления или зависимости по DSM – IV в течение 6 месяцев и более, было выявлено, что от 35 до 54 % пациентов достигают ремиссии, при этом период наблюдения в среднем занимает 17 лет (Fleury et al., 2016).
Известно, что достижение ремиссии среди пациентов с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, так же как и их развитие, зависит от индивидуальных особенностей, в том числе генетических, расы и этнической принадлежности, наличия или отсутствия социальной поддержки и различных особенностей развития наркологического расстройства (например, возраст начала употребления, течение заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, включая употребление других ПАВ, а также коморбидные психиатрические расстройства), семейного анамнеза и семейного положения, наличия работы и религиозности (Dawson et al., 2012; Laudet et al., 2002, 2009). Например, в одном из исследований было выявлено, что у пациентов с алкоголизмом частота достижения ремиссии наблюдается в три раза чаще, если член семьи первой степени родства с зависимостью от алкоголя воздерживается от употребления алкоголя, по сравнению с теми, у кого есть родственник с диагнозом алкогольной зависимости и непрерывным течением без эпизодов ремиссии (McCutcheon et al., 2017). В другом исследовании показано, что успешная стабилизация ремиссии зависит от характера употребления алкоголя в период ремиссии (определяемая не как воздержание от употребления, а как отсутствие соответствия диагностическим критериям злоупотребления или зависимости DSM – IV). Используя данные когортного исследования, проведенного в США, авторы оценили риск развития рецидива среди лиц, которые находились в ремиссии по поводу алкогольной зависимости (по DSM – IV) на момент включения в исследование. Было обнаружено, что в течение трехлетнего наблюдения число участников, находящихся в ремиссии, было выше среди тех, кто придерживался абсолютной трезвости, по сравнению с теми, кто продолжал употреблять алкоголь в пределах порогового (рискованного) употребления, которое определялось как употребление 14 и более стандартных порций алкоголя [14 грамм этанола] в неделю или 5 и более в день для мужчин, и 7 и более порций алкоголя в неделю и 4 и более в день для женщин) (Dawson et al., 2007).
2.5. Корреляции и предполагаемые факторы риска развития аддикции
К настоящему времени накоплено много данных эпидемиологических, кросс-секционных и когортных исследований, проведенных в мире на больших выборках подростков и молодых взрослых, которые посвящены поиску факторов риска начала употребления ПАВ и развития психических и поведенческих расстройств в результате их употребления. Некоторые из данных факторов являются универсальными для разных типов ПАВ, что обусловливает сходство результатов исследований на группах пациентов с разными наркологическими диагнозами. Условно все факторы можно разделить на: 1) факторы, связанные непосредственно с локальной наркологической ситуацией и ПАВ, которые представляют общий риск для популяции в целом; 2) индивидуальные характеристики, совокупность которых представляет индивидуальный риск для каждого отдельного индивида. Изменения ПАВ и наркорынка в целом за последнее десятилетие могут приводить к повышению риска для отдельного потребителя ПАВ. В отношении наркотиков к таким изменениям относятся следующие: 1) появление сотен новых синтетических наркотиков; 2) более высокая концентрация активных веществ в наркотиках; 3) изменения на наркорынке, включая рост интернет-торговли, технологические инновации, диверсификации каналов поставок, повышающие доступность наркотиков в большем числе регионов, что ведет к падению цен и делает их более доступными. Например, за последнее два десятилетия содержание активных веществ в каннабисе увеличилось в четыре раза в США (содержание ?9-ТГК с 4 до 16 %) и в два раза в Европе (с 6 до 11 %), что, соответственно, увеличивает риск вредных последствий для здоровья. Кроме того, согласно опросам, проведенным среди учащихся в школах, у подростков и молодежи формируется парадоксальное изменение восприятия вреда каннабиса в обратную сторону: они показали, что доля подростков, считающих каннабис вредным, сократилась на 40 %. Индивидуальные характеристики – факторы риска развития аддикции можно условно разделить на следующие категории: 1) биологические факторы, такие, как наследственность, этническая принадлежность, биологический пол, возраст; 2) социо-демографические факторы (образование, работа, семейное положение); 3) психологические характеристики, включая коморбидные психиатрические расстройства (депрессивные, тревожные и психотические расстройства, посттравматическое стрессовое растройство [ПТСР], СДВГ), насилие, травматичный опыт, личностные характеристики (импульсивность, готовность к риску, низкая самооценка); 4) социальные факторы окружающей среды, специфические для индивида, включая доступность ПАВ, употребление и отношение к ПАВ в семье, конфликты в семье, дефицит общения в семье, ослабление семейных связей, влияние сверстников (употребление, одобрение употребления, «обряд посвящения»), отношение общества к употреблению и правовое регулирование (привлекательная реклама, СМИ, употребление ПАВ «лидерами мнений»).
Ниже приведены данные о статистических взаимосвязях между некоторыми из перечисленных характеристик и наркологическими заболеваниями.
2.5.1. Семейная отягощенность
Из клинической практики и эпидемиологических исследований хорошо известно, что семейная отягощенность психиатрическими и наркологическими заболеваниями является фактором риска развития аддикции (Dawson et al., 1992; Kendler et al., 1997). Для ответа на вопрос, насколько данное влияние обусловлено именно генетическими факторами, а не влиянием общей среды, в которой человек растет и воспитывается, проводятся исследования близнецов (англ. twin study), приемных детей (англ. adoption study) и анализ перекрестного воспитания (англ. cross-fostering analysis). Оказалось, что некоторые поведенческие характеристики, например, ранний возраст начала употребления алкоголя, именно из-за генетической уязвимости представляют собой фактор риска развития расстройств, связанных с употреблением алкоголя (Ystrom et al., 2014). Результаты мета-анализа публикаций с применением данных методов исследования показывают, что вариации последовательности нуклеотидов ДНК обусловливают в среднем 50 % риска развития расстройств, связанных с употреблением разных ПАВ (Goldman et al., 2005; Verhulst et al., 2015). Исследования по оценке генетической обусловленности наркологических расстройств продемострировали доказательства влияния наследственности на развитие расстройств от следующих ПАВ: никотина (Hartz et al., 2012; Pеrez-Rubio et al., 2017; Thorgeirsson et al., 2010), кофеина (Cornelis et al., 2016; Sulem et al., 2011), каннабиса (Sherva et al., 2016; Verweij et al., 2010), кокаина (Cabana-Dom?nguez et al., 2019; Smelson et al., 2012) и опиоидов (Nielsen et al., 2010; Song et al., 2020). Более того, имеются некоторые данные, указывающие на сходство генетической уязвимости в отношении развития наркологических расстройств и некоторых личностных характеристик, таких как готовность к риску, импульсивности, стрессу и других психических расстройств, например, булимии (Distel et al., 2012; Kreek et al., 2005; Munn-Chernoff et al., 2015). Следует отметить, что генетический риск является вероятным, но не детерминированным, то есть семейная отягощенность наркологическими заболеваниями может существенно повышать шансы развития аддикции, но не определять наличие или отсутствие заболевания. У многих людей, чьи родители страдают алкогольной зависимостью, не формируется алкоголизм, и наоборот, существует масса случаев, когда у людей с диагнозом алкогольной зависимости в семейном анамнезе этот диагноз отсутствует. Очевидно, что окружающая среда играет важную роль в формировании алкоголизма (Mocroft et al., 2015; Seglem et al., 2016).
2.5.2. Пол
Ряд кросс-секционных опросов и проспективных исследований (Erol Karpyak, 2015; Fillmore, 1987; Grant et al., 2016; Nolen-Hoeksema, 2004), в том числе в России (Rehm et al., 2022), подтверждают тот факт, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, и употребление алкоголя с пагубными последствиями для здоровья чаще встречаются среди мужчин. В мире в 2016 г. 237 миллионов мужчин и 46 миллионов женщин имели расстройства, связанные с употреблением алкоголя, в течение предшествующего года, причем эти расстройства наиболее распространены среди мужчин и женщин в Европе (14,8 % и 3,5 %) и Америке (11,5 % и 5,1 %) (WHO, 2018). Проведенный в РФ опрос пациентов поликлинического звена также выявил гендерный разрыв: наличие синдрома зависимости от алкоголя среди мужчин составило 12 %, а среди женщин 3 % (Rehm et al., 2022). Различия в распространенности и заболеваемости алкогольной зависимостью среди мужчин и женщин объясняются рядом биологических и социальных факторов, которые могут способствовать тому, что женщины, как правило, реже употребляют алкоголь или употребляют в меньшем количестве (Erol Karpyak, 2015). К биологическим (половым) факторам относят следующие: 1) различия в фармакокинетике алкоголя: например, по сравнению с мужчинами в организме женщин обычно меньше объем воды, в которой растворяется алкоголь, что может объяснять, почему женщины достигают более высоких пиковых уровней алкоголя в крови, чем мужчины, при употреблении равных доз алкоголя, и, кроме того, более низкий уровень метаболизма у женщин приводит к большей абсорбции алкоголя напрямую в кровоток по сравнению с мужчинами, а также 2) различия в уровне половых гормонов. Следует отметить, что биологические факторы лишь предположительно объясняют гендерные различия, так как имеют ряд ограничений, например, нет данных, подтверждающих гипотезу, что женщины употребляют меньшее количество алкоголя из-за субъективного ощущения опьянения при меньших дозах, и, кроме того, не продемонстрированы различия в употреблении алкоголя в зависимости от объема воды в организме. Известно, что различия в эффектах алкоголя на поведение определяется рядом био-психо-социо-культуральных факторов, например, культурными и социальными нормами и стандартами, при которых социумом поощряется употребление больших объемов алкоголя у мужчин, но в отношении женщин действуют более строгие правила. Например, потребление алкоголя среди мужчин может использоваться для демонстрации маскулинности, когда употребление высоких доз алкоголя воспринимается как доказательство большей выносливости, самоконтроля и силы воли, тогда как употребление больших объемов алкоголя у женщин воспринимается как вредное, негативно влияющее на социальные роли и обязанности женщины в семье поведение; кроме того, употребление алкоголя у женщин может быть снижено из-за страха сексуального насилия в состоянии алкогольного опьянения (Bloomfield et al., 2006; Wilsnack et al., 2000).
Исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, свидетельствуют о том, что разрыв между женщинами и мужчинами в отношении распространенности расстройств, связанных с употреблением алкоголя, со временем сокращается, что объясняется разными причинами, включая изменения в структуре потребления алкоголя и увеличение количества женщин, употребляющих алкоголь в мире (Agardh et al., 2021; Erol Karpyak, 2015; Rehm, Mathers et al., 2009; Slade et al., 2016). Данные изменения в характере употребления алкоголя среди женщин могут быть результатом социокультурных изменений и отходом от традиционных женских социальных ролей или связаны с изменениями, вызванными увеличением числа работающих женщин, а также совместным воздействием домашней и рабочей среды (Parker Harford, 1992). Другим объяснением роста расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, среди женщин является более раннее начало употребления алкоголя с течением времени. Так, среди женщин, рожденных в 1944–1963 гг., первое употребление происходило раньше, чем в когорте женщин, рожденных в 1934–1943 гг. (Grucza et al., 2008).
К другим факторам, которые могут объяснить гендерные различия при употреблении алкоголя и развитии расстройств, связанных с его употреблением, относятся наличие и/или отсутствие следующих характеристик: 1) социодемографические: семейное положение, наличие детей в семье, полная занятость на работе, этническая принадлежность, возраст, профессия, уровень образования; 2) опыт и переживание различных жизненных событий, например, переживание травматического опыта, физическое или сексуальное насилие, стигматизация и дискриминация; 3) наличие сопутствующих психологических особенностей (например, реакция на специфические стрессы) и психопатологии (Bryan et al., 2017; DAWSON et al., 2005; Greenfield et al., 2003; Meng D’Arcy, 2016). Важно отметить, что некоторые из этих характеристик, в частности, насилие в детстве, могут не только быть предиктором начала употребления алкоголя и развития расстройств, связанных с употреблением алкоголя, но и способствовать более быстрому прогрессированию алкоголизма у женщин (La Flair et al., 2013). Кроме того, показаны различия в клинико-анамнестических характеристиках заболевания между мужчинами и женщинами. Так, исследование, проведенное в России, по оценке гендерных различий среди пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, госпитализированных для купирования синдрома отмены, выявило, что для женщин характерны следующие особенности течения заболевания: более позднее начало употребления алкоголя и формирования синдрома отмены, менее продолжительные ремиссии, более частые госпитализации в наркологический стационар, выраженная социальная дезадаптация и высокая частота коморбидных невротических расстройств в постабстинентном периоде (Сахаров и Говорин, 2014).
В ряде исследований также выявлены гендерные различия в отношении расстройств, связанных с употреблением табака и наркотиков. В России среди женщин показатель распространенности курения ниже, чем среди мужчин, однако со временем наблюдается тенденция к его увеличению (Shkolnikov et al., 2020). Например, в период с 1992 по 2003 г. распространенность курения удвоилась среди женщин, достигнув 14,8 %, и при этом немного (с 57 % до 63 %) увеличилась среди мужчин (Perlman et al., 2007). Таким образом, наблюдается половая конвергенция в отношении употребления табака в связи с увеличением частоты курения у женщин и уменьшением у мужчин (Quirmbach Gerry, 2016). Интересно, что факторы-предикторы в отношении курения также имеют гендерные различия: если у мужчин к ним относятся неблагоприятное социальное положение (низкий уровень образования, заработка и социальной поддержки), то для женщин это проживание в крупных районах города и семейное положение (разведенные, живущие отдельно и овдовевшие женщины курили чаще, чем замужние) (Pomerleau et al., 2004). Гендерные различия в России наблюдаются и по другим показателям в отношении табака: 1) мужчины начинают курить в возрасте до 18 лет, а женщины до 20 лет; 2) мужчины курят больше сигарет в день (10 и более) по сравнению с женщинами (меньше, чем 10 сигарет в день); 3) доля курящих более 20 сигарет в день выше среди мужчин, чем среди женщин (Gilmore et al., 2004). Таким образом, вероятность развития зависимости от табака средней и тяжелой степени тяжести выше у мужчин.
В мире среди представителей мужского пола распространенность и частота употребления наркотиков и расстройств, связанных с их употреблением, выше по сравнению с представителями женского пола (Degenhardt et al., 2007; Grant et al., 2016). Социальные или культурные ограничения, которые могут быть возможными факторами, объясняющими меньшую распространенность употребления алкоголя среди девушек и женщин, также могут быть применимы для понимания картины употребления некоторых видов наркотиков. В одном из исследований, проведенных в России, было показано, что к факторам риска употребления наркотиков среди женщин относится наркозависимость партнера (Шигакова, 2017), то есть для получения наркотика среди женщин необходима встреча с «пассивным агентом наркотизации» – человеком или группой людей, которые «показывают пример» употребления наркотиков (Позднякова и Брюно, 2021). Однако современные исследования в России показывают, что в связи с развитием интернет-технологий на наркорынке такой «традиционный» способ приобщения к наркотикам теряет свою актуальность и, как следствие, приводит к сокращению гендерного разрыва в употреблении наркотиков и в развитии наркомании (Позднякова и Брюно, 2021). Кроме того, гендерные различия в употреблении наркотиков зависят от разновидности ПАВ и возраста употребления. Например, есть свидетельства половой конвергенции в отношении каннабиса: результаты систематического обзора и мета-анализа, объединившего 22 исследования, свидетельствуют о том, что при оценке распространенности употребления каннабиса гендерный разрыв сократился по сравнению с когортой родившихся в 1941 и 1995 годах (Chapman et al., 2017).
2.5.3. Возраст
Распространенность употребления алкоголя и расстройств, связанных с употреблением алкоголя, различается в разных возрастных группах. Например, данный показатель обычно ниже среди пожилых людей (Calvo et al., 2021; Garnett et al., 2022; B. F. Grant et al., 2009, 2016; Kandel et al., 1997). Это объясняется рядом причин. Поскольку распространенность заболеваемости зависит как от частоты появления новых случаев, так и от продолжительности заболевания, наркологические заболевания встречаются реже среди пожилых людей, поскольку: 1) количество новых случаев снижается в течение жизни; 2) продолжительность расстройства сокращается с возрастом (например, в результате достижения ремиссии или преждевременной смерти); 3) влияет сочетание всех этих факторов. Другими возможными объяснениями снижения распространенности алкогольной зависимости с возрастом являются следующие: 1) снижение толерантности к алкоголю с возрастом в результате изменений в фармакокинетике алкоголя; 2) ухудшение памяти у пожилых людей, что ведет к ошибкам при опросе; 3) эффект когорты (то есть влияние других отличительных социологических, психологических и иных характеристик поколений); 4) методологические сложности, например, инструменты скрининга, применяемые у молодых взрослых, могут быть неактуальны для пожилых людей (Berks McCormick, 2008; Helzer et al., 1991; Meier Seitz, 2008). Согласно исследованию, проведенному в США, наиболее высокий риск развития расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, достигает максимума примерно в возрасте 19 лет, и затем отмечается устойчивое снижение риска формирования зависимости с увеличением возраста (Hasin et al., 2007). В мета-анализе, объединившем данные 192 эпидемиологических исследований, показано, что риск развития расстройств, связанных с употреблением алкоголя, наиболее высок в 25–27 лет (Solmi et al., 2022). Однако проблемы, связанные с употреблением алкоголя, среди пожилых людей могут возникать при более низком уровне употребления, чем у более молодых взрослых. Пожилые люди с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, могут быть более подвержены риску развития сопутствующих соматических проблем (Caputo et al., 2012; Wang Andrade, 2013).
Возраст начала употребления играет важную роль в развитии и прогрессировании расстройств, обусловленных употреблением алкоголя. Например, чем раньше возраст первого употребления алкоголя, тем выше вероятность развития алкоголизма в течение следующих 10 лет после начала употребления и развития синдрома зависимости до достижения 25-летнего возраста (Hingson et al., 2006). Первое употребление в возрасте 11–14 лет увеличивает риск развития расстройств, обусловленных употреблением алкоголя (DeWit et al., 2000). Самый высокий риск развития синдрома зависимости от алкоголя наблюдается в случае начала употребления алкоголя в возрасте 17–18 лет, причем в 12–13 % случаев синдром зависимости от алкоголя развивается в течение 10 лет после первого употребления (Wagner Anthony, 2002). Кроме того, раннее начало употребления алкоголя ассоциируется с тяжестью симптомов алкогольной зависимости (Chen et al., 2011). Однако употребление алкоголя в более молодом возрасте связано не только с развитием синдрома зависимости, но и с другими вредными последствиями для здоровья, например, с повышенным риском травм и автомобильных аварий, физического насилия, антисоциальным поведением, употреблением большего количества алкоголя в ответ на стрессовые факторы (Chen et al., 2011; Dawson et al., 2007; Hingson et al., 2001, 2002; Hingson et al., 2000). В связи с этим риск смертности в результате употребления алкоголя выше в более молодом возрасте (WHO, 2018).
Как и в случае с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, возраст коррелирует с распространенностью расстройств, связанных с употреблением табака и наркотиков. Показано, что в России возраст является значимым фактором, определяющим вероятность курения. Например, самая низкая распространенность курения отмечается среди пожилых людей (Pomerleau et al., 2004). Самые высокие показатели распространенности расстройств, связанных с употреблением наркотиков, наблюдаются среди лиц в позднем подростковом и молодом взрослом возрасте, а далее с возрастом отмечается тенденция к снижению этого показателя (Compton et al., 2007; Eaton et al., 1989; B. F. Grant et al., 2009). Риск формирования зависимости от наркотиков наиболее высок примерно в возрасте 19 лет, а затем резко снижается, причем риски развития заболевания после 25 лет являются относительно низкими (Compton et al., 2007).
Показатели риска могут различаться в зависимости от типа наркотика. Так, наибольший риск развития зависимости от каннабиса наблюдается в возрасте 17 лет с последующим снижением до минимального в возрасте 30 лет (Wagner Anthony, 2002), тогда как пик риска развития зависимости от кокаина самый высокий при первом употреблении в 24–26 лет и сохраняется до 35 лет (Wagner Anthony, 2002). Среди потребителей марихуаны зависимость развивается у 8 % в течение 10 лет после первого употребления, а среди потребителей кокаина у 5–6 % зависимость развивается в течение первого года употребления, причем у 15 % – в течение 10 лет после первого употребления (Wagner Anthony, 2002).
Несмотря на то что частота новых случаев наркомании среди пожилых людей относительно низка, а выживаемость людей с наркотическими расстройствами с возрастом снижается, существуют и другие факторы, которые могут объяснять низкую распространенность расстройств, связанных с употреблением наркотиков. Например, эффект когорты, который объясняется вариативностью доступности наркотиков в зависимости от года рождения когорты. Так, нынешняя когорта пожилых людей в молодости не имела доступа к синтетическим наркотикам. Поэтому при оценке изменений в распространенности расстройств необходимо проводить различия между изменениями, которые происходят одинаково для всех возрастных групп в течение определенного исторического периода (так называемый эффект периода), изменениями, происходящими с возрастом по мере взросления индивидуума (возрастной эффект), и эффектом когорты, который отражает различия в уровне заболеваемости людей, родившихся в разные годы (O’Malley et al., 1984).
Как и в исследованиях алкоголизма, описанных выше, раннее начало употребления наркотиков связано с повышенным риском формирования зависимости (Grant, 1998; Grant Dawson, 1998; Le Strat et al., 2015). У людей, которые начали употреблять ПАВ (никотин, алкоголь или наркотик) в возрасте до 18 лет, вероятность развития проблем с наркотиками в 7 раз выше по сравнению с теми, кто начинает употреблять после 21 года (The National Child Traumatic Stress Network, 2022). Результаты эпидемиологических исследований показывают, что когорты с более поздним годом рождения чаще начинают употреблять разные ПАВ (табак, каннабис, кокаин, прием лекарственных средств в немедицинских целях) в более раннем возрасте – в детстве и раннем подростковом возрасте (Breslau et al., 2001; Chapman et al., 2017; Colell et al., 2013; Geels et al., 2012; Martins et al., 2010; Miech et al., 2013).
2.5.4. Уровень образования
Уровень образования, как один из показателей социально-экономических характеристик и социального класса, часто оценивается в эпидемиологических исследованиях, связанных с оценкой распространенности употребления ПАВ и расстройств, связанных с употреблением ПАВ (McLaughlin et al., 2011). Вероятно, данная связь является двунаправленной, так как раннее начало употребления ПАВ и наркологические расстройства связаны с уровнем образования в дальнейшем (Grant et al., 2012). В настоящий момент опубликованные данные показывают противоречивые результаты, которые частично объясняются методологией оценки употребления ПАВ и верификации наркологических расстройств, а также воздействием других опосредованных характеристик, которые могут влиять как на уровень образования, так и на употребление ПАВ, например, генетические факторы, раса и этническая принадлежность (Latvala et al., 2011; Sloan Grossman, 2011). Исследование среди британской когорты (на момент сбора данных возраст участников был 34 года) выявило, что более высокий уровень образования связан с более высокими шансами начала употребления алкоголя и проблем, связанных с его употреблением, причем данная взаимосвязь более выражена среди женщин по сравнению с мужчинами (Huerta Borgonovi, 2010). Интересно, что более высокая успеваемость в обучении также связана с более высоким риском начала употребления алкоголя среди женщин, но не среди мужчин (Huerta Borgonovi, 2010). В когорте мужчин, проживающих в Японии, наоборот, более низкий уровень образования был связан с более высоким риском злоупотребления алкоголя по сравнению с теми, кто имеет высшее образование (Murakami Hashimoto, 2019). Исследование, проведенное в США, показало, что у лиц без высшего образования более высокий риск развития расстройств, связанных с употреблением алкоголя, чем у лиц с высшим образованием (Gilman et al., 2008). Когортное исследование в Швеции выявило, что более высокая школьная успеваемость и уровень интеллекта в подростковом и молодом взрослом возрасте связаны с уменьшением частоты употребления алкоголя (Kendler, Ohlsson, et al., 2017). Более того, отчисление из средней школы или колледжа в 6 раз повышает риск развития расстройств, связанных с употреблением алкоголя, во взрослом возрасте (Crum et al., 1993).
Распространенность употребления табака и наркотиков, а также расстройств, связанных с их употреблением, тоже различается в зависимости от уровня образования. Например, наблюдаемый рост табакокурения в России с 1992 по 2003 г. значимо выше среди лиц с низким уровнем образования (Perlman et al., 2007; Quirmbach Gerry, 2016). В исследовании распространенности наркопотребления среди работающего населения в России выявлено, что среди респондентов со средним специальным образованием доля людей, которые сообщали об употреблении наркотиков когда-либо, больше по сравнению с респондентами с высшим образованием (Позднякова и Брюно, 2019). Эпидемиологический отчет на основании данных американской когорты содержит сходные данные: самый низкий уровень употребления наркотиков за последний месяц был среди взрослых, окончивших колледж, по сравнению с теми, у кого есть некоторый опыт обучения в колледже, или тех, кто окончил или не окончил среднюю школу (Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2017). Кроме того, доля тех, у кого в предыдущем году наблюдалось расстройство, связанное с употреблением наркотиков, была низкой среди людей с законченным высшим образованием (Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2017). Обнаружено, что у подростков с проблемами в школе и/или отчисленных из школы (определяемых как учащиеся в группе риска) выше доступ к наркотикам, а также выше риск неблагоприятных последствий от их употребления по сравнению с другими учащимися средней школы (Eggert Herting, 1993). Систематический обзор подтверждает, что среди учащихся в группе риска выше частота употребления сигарет, марихуаны и других наркотиков по сравнению с остальными учащимися или окончившими школу (Townsend et al., 2007). Низкая школьная успеваемость также связана с риском развития расстройств в дальнейшем, связанных с употреблением наркотиков (Esch et al., 2014; Fothergill et al., 2008).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: