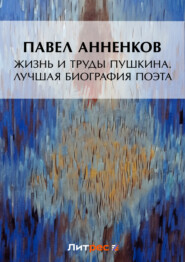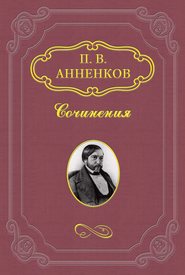По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма из-за границы
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(#c_299) еще не начинал своих лекций о литературе южной Европы. Кроме этих лекций, читаются курсы литератур китайской, коптской, санскритской, индийской и господь знает еще какой. Лекции естественных наук, ремесел всегда полны. Есть еще множество частных курсов. Недавно был я в институте, заведенном частными людьми для образования ораторов, в которых действительно так нуждается Франция. В положенные дни всякий может являться на кафедру института и говорить на заданную тему. При мне тема была: «о пользе искусств для оратора». Истинно сказать, часа два болтали пустяки, чему, впрочем, кажется мне, главною причиною была сама тема. Лучше всех о прекрасном и благородном говорил бывший издатель «Франкфуртского журнала» Дюран
(#c_300). Он пользуется в Европе не очень завидною репутацией, но о тех вещах говорит всегда со слезами на глазах…
Я здесь достал у А. И. Тургенева
(#c_301) последние три тома Пушкина и, после четырнадцатимесячного воздержания от российской литературы, с первого приема наткнулся прямо на нашего псковского усопшего. Господи владыка, как он ударил по всему существу!.. Да вы, впрочем, не поймете, что значит читать за границей Пушкина. А здесь решительно ничего нет в литературе даже такого, чтоб наделало шуму. Французы совершенно согласны, что путешествие Гюго на Рейн – скучно
(#c_302). «Майорка»
(#c_303) Жоржа Занда, тоже путешествие, расшевелило несколько умы, но скоро было забыто вследствие таковой резолюции: не может быть, чтоб «Майорка» была так хороша. Роман Бальзака, печатавшийся в «Siecle» и вышедший особенною книгой: «Записки двух девушек»
(#c_304), кажется, возбудил даже здесь негодование излишнею фигурностью выражения. Предпочитают ему «Кавалера Арменталя» Дюма
(#c_305), но многие говорят: «Я не читаю романов Дюма, потому что поджидаю, когда он переделает их в драмы: тогда будет легче, занимательнее, да и деньги хорошо употребятся: пьесу увидишь, и роман узнаешь». Книгопродавцы прибегли с горя к картинкам и великолепным изданиям, чтоб завлекать охладевшую публику; новый роман Сулье: «Если б молодость ведала! Если б старость могла!» издается еженедельно листками, со всею типографскою роскошью, и бог знает, когда кончится. В этом роде замечательны статейки, собранные под заглавием: «Животные, писанные ими самими (peints par eux-memes), а нарисованные другими», с прекрасными карикатурами Гранвиля
(#c_306). Политические брошюры распространяются страшно, так распространяются, что одному человеку уже и вычитать нельзя, что появляется в неделю. Я только хожу да посматриваю на окна книжных магазинов, где каждый день является новая афишка. Вчера возвещали о брошюре: «Я бью стекла»; третьего дня: «Счет пощечин, полученных Францией»; сегодня: «Памфлет и история». Плюнешь всякий раз, да и отойдешь прочь!
Наконец, первый акт пьесы заключается пародией всех театров; тут в карикатуре являются целые сцены из замечательнейших пьес прошлого года, сыплются намеки на авторов, актеров и актрис, на писателей, деревянную мостовую, новые моды и черт знает еще на что. Думаю: только цензура помешала вывести на сцену палаты, магистрат, духовенство и двор. Так изволит тешиться Париж над самим собою. Второй акт, занятый будущностью Парижа, где пароходы ходят в тридцать шесть часов в Пекин, аэростаты летают в Гаванну за сигарами, люди всех наций появляются на улицах всемирного города, вымощенных уже bois de pallisandre
(#c_307), фантастически довершает эту пьесу, доставившую мне более удовольствия, чем «Кипрская королева» Галеви с процессиями, серенадами, танцами; чем «Цепь» Скриба, поддерживаемая превосходною игрою Плесси в роли графини; чем несколько нахальный водевиль «Виконт Леторьер»
(#c_308), где Дежазе в мужском костюме так дерзостно хорошо читает; чем Арналь с уморительными ужимками в «Палатине»
(#c_309), Лафон
(#c_310) с иронией, скрывающей глубокую испорченность, в «Электрической цепи»
(#c_311), буф Левассор в фарсе «Синий чулок»
(#c_312), и сладенькая Вольпи
(#c_313) в сантиментальном водевиле «Парижские феи»
(#c_314), – более чем, вероятно, доставят удовольствие новоожидаемые письма Гюго, Дюма и Бальзака…
X
Париж. 18-го мая 1842 года.
Я выезжаю из Парижа на Рейн через Бельгию и Голландию собственно для того, чтоб в первой посмотреть гробницу Карла Великого
(#c_315) да купить две-три книжки французские за треть цены, а в последней поклониться в Саардаме великому русскому имени
(#c_316). Когда я здесь говорю, что еду на Рейн, мне отвечают: «А, это туда, где на нас написали стихи» (народная песня Беккера: Sie werden ihn (Рейн) nicht haben)
(#c_317). A кто с Рейна едет в Париж, так там, слышно, восклицают: «А, сходите же к Виктору Гюго, который хочет у нас Кельн взять («Рейн», Гюго), и скажите ему, что мы отнимем у него Страсбург!» Только и толков по обеим сторонам реки, что о реке
(#c_318): увижу я ее, наконец, и вместе с З<аикиным>, который ждет меня в Кельне. К<атков> пишет, что собирается в Россию: хотелось бы видеть его, да вряд ли!
Я видел месяца два тому назад в палате Ламартина за работой: он ткал ввиду всех нас великолепное одеяние из золота, парчи, воздуха и вечерней зари своим мыслям о братстве народов, о подчинении всех иностранцев делу всеобщей цивилизации, мыслям, для которых изобрел и название политики социальной (sociale). Когда прерывали его, он складывал руки на груди, и благородная, аристократическая его фигура прекрасно рисовалась за мрамором трибуны. Этот уж Рейн нипочем ставит. Где Рейн! Рейна нет, а есть человечество. Ну, вот я разберу на месте и этот вопрос. Некоторого рода смешение царствует и по другим статьям, хоть, например, по статье о взаимном осмотре кораблей для прекращения торговли неграми. Прекратить торговлю – пожалуй; но согласиться на действительнейшую меру к прекращению ее – нет
(#c_319). От этого чуть-чуть не в один день палата отказывала в своем участии Англии, а из Англии приезжали ученые и филантропы на обед к герцогу Брольи для принятия мер к скреплению общества против торговли
(#c_320). А чтоб ни одной ноты в этом аккорде не недоставало, человек-софизм, Гранье-Кассаньяк
(#c_321), очень хорошо понявший, что в наше время всеобщего движения вперед самое лучшее средство отличиться – это пятиться как можно более назад, издатель «Le Globe»
(#c_322), удививший Францию своею книгой «О происхождении дворянства и каст», крепко восстал в пользу порабощения негров. Самое великое смешение, однакож, представляется в Академии. Тут Токвилю
(#c_323) приходится говорить похвальное слово Сесаку, – не знаю, что он был такое, префект наполеоновский, конюший ли, господь его знает; Балланшу, с его «Паленгенезией»
(#c_324) и несовершенно уясненными на историю и человечество взглядами, рассуждать о Дювале
(#c_325), авторе «Влюбленного Шекспира», который так хорошо играется на домашних театрах; тут, наконец, принимают в Академию Пакье
(#c_326), не написавшего ни одной строчки, мимо Сент-Бёва и господина Патена
(#c_327), мимо Альфреда де-Виньи
(#c_328). В этих приемах Академия хлопает, в продолжение года, трем-четырем самым противоречащим мнениям, как остроумно вывел Филарет Шаль: то ей нравится, что Наполеон есть остановка в прогрессе, то соглашается, что Наполеон – хороший человек, то похваляет наш век, то говорит: не мешало бы что-нибудь посущественнее. Прием Балланша породил умилительную сцену. Вместо больного Балланша его речь читал Минье
(#c_329) и в конце ее, обратясь в одну сторону, в угол, к самой двери, где сидел старик с продолговатым лицом, орлиным носом, блестящими глазами и клоками седых волос на открытом лбе, благодарил его от имени Балланша, разумеется, за дружбу, напомнив, что они оба – отшельники в сем мире, хотя один из них открыл настоящий век религиозною песнью
(#c_330), а другой, может быть, вниманию того первого обязан некоторою известностью. Гром рукоплесканий раздался со всех скамеек, со всех галерей, сверху, с боков и снизу. Шатобриан закрыл лицо руками и заплакал. С умилением смотрел я на почтенного старика, который пережил свое политическое влияние, которому скоро-скоро откажут и в титуле гения (уж и начинается!), но который оставит по себе память благороднейшей души, чистейшего характера. В одной из галерей сидела приятельница его, старушка Рекамье
(#c_331), с своим обществом и также хлопала. Я был у Рекамье на концерте (все это Александр Иванович Тургенев хранительно напутствует мне). Благородно просты комнаты ее. Из передней маленькая приемная с знаменитым горельефом Тенерани
(#c_332); из приемной небольшая белая зала с огромною, но манерною картиной Жерара
(#c_333), изображающей г-жу Сталь в виде вдохновенной Коринны с арфой в руках. В этой зале пела Полина Гарсия
(#c_334) и Рашель – Федра декламировала страстные монологи. Как-то странны были в этой милой комнате и при этом обществе чинных дам и девиц ее сладострастные вскрики и полные жара описания… Кроме Гизо, Баранта
(#c_335), Шатобриана, тут был и Сент-Бёв, издавший вторую часть своего «Port-Royal», так хорошо обличающего болезненное воображение Сент-Бёва, который, начав с «Volupte», кончает теперь глубоким суровым мистицизмом янсенистов
(#c_336). Тут был и Ампер, так добросовестно и остроумно развивавший нам нынешний курс Монтаня, Паскаля и Декарта
(#c_337); тут был еще Ленорман
(#c_338), Фориель
(#c_339), Сен-При
(#c_340) и пр. и пр. Турецкий посланник в красной своей феске и с благородною, задумчивою физиономией, свойственною всем туркам хорошей крови, тихо помавал головой, слушая Рашель и думая, вероятно, о других сильных страстях на другом конце Европы. Но из всех лиц, наполнявших залу, примечательнейшее лицо для меня была сама хозяйка. Есть имена, с которыми соединено всегда понятие о юности, красоте, грации: Юлия, Офелия, Мария Стюарт
(#c_341), Рекамье. Против всех правил эстетики последняя жива до сих пор, имеет большой чепец на голове, морщины на лице, неопределенную талию, и я подумал: нужна смерть для красоты!
Упомянул я за восемь строк несколько профессорских имен: должен прибавить, что нынешнюю зиму аудитории двух из них были особенно полны: Сен-Марк Жирардена