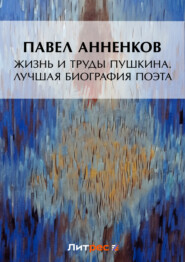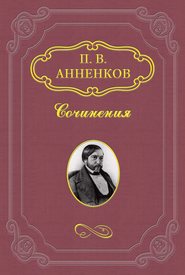По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма из-за границы
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В последней книжке находится статья об Эстонии
(#c_214), написанная какой-то англичанкою, бывшею и в Петербурге. Переводчик статьи кратко говорит, что автор прожил некоторое время в Петербурге, был очень хорошо принят одним семейством; город и жители ему очень нравятся, но покинул он их с радостью. Миллион бомб! Да как же это так?.. Впрочем, надо сказать, в последнем замечании я крепко подозреваю фантазию г. переводчика или редактора. По действию в высочайшей степени раздражительного народного тщеславия, которое однакож составляет великую мощь нации, ни один француз не скажет доброго слова ни об Англии, ни о Германии, ни об Италии, ни о России без того, чтоб не оговориться и не попросить извинения у соотечественников. Непременно прибавит он к панегирику «Правда и то, что я находился в это время в особенно счастливом расположении духа: у меня умерла тетка», или, в крайнем случае, объяснит похвальное на свой манер: «Сближение с французскими идеями произвело все эти счастливые последствия». Вот и вся недолга! Поразила меня еще следующая фраза в этой статье: «Она имела счастье познакомиться с одним из высших русских офицеров, что доставило ей возможность видеть львов большого света…» Ну, нечего сказать – услужил ей высший русский офицер, и очень бы мне хотелось знать, как показались ей, после британских львов, наши посильные подражания. Наконец, переходя от revues к брошюрам, которые в эту минуту наиболее читаются, упомяну о так называемых «Физиологиях»
(#c_215). С легкой руки какого-то шутника, говорят, профессора, написавшего книжечку нравов, уж я и забыл какого сословия, и выдавшего ее под заглавием «Физиология» имя рек, – появились тысячи брошюрок с виньетами и гравюрами, буквально наводнивших библиотеки. Каких тут нет только физиологии! Мастерового, депутата, солдата, фланёра, и проч. и проч.; наконец, физиология перчатки, наконец, физиология извощичьей лошади; того и гляжу, что появится физиология праздного славянина, объезжающего неизвестные государства, – с моим портретом.
Наиболее обращающие внимание брошюры: ноябрьская книжка «Les Guepes»
(#c_216) Альфонса Kappa
(#c_217) и «Almahach populaire»
(#c_218). Первая объявляет претензию на совершенное беспристрастие, философическое презрение к знакам отличия, что явно доказывает существование грешной мечты и тайное страдание в неимении их, между тем, как Александр Дюма
(#c_219) (страшно обидно!) имеет, кажется, четыре или пять, Евгений Сю
(#c_220) (да будет он проклят!) тоже украшен, да и Виктор Гюго
(#c_221), да и Ламартин
(#c_222), да и множество других, все с бутоньерками! Тут поневоле сделаешься беспристрастен и будешь издавать весьма смешные брошюры, в которых происки, промахи, интриги всех партий остроумно и бесщадно выводятся наружу и которые имеют всю занимательность умной сплетни или рассказа какого-нибудь хитрого домашнего шпиона, вроде наших старых сплетниц! Вторая брошюра не столько замечательна своим содержанием, где в коротеньких статьях приведены факты разных бедствий – нужд и требований бедного класса, сколько по случившимся с нею маленьким обстоятельствам. Палата депутатов дозволила цензуру на гравюры и театральные пьесы. Цензура остановила гравюры альманаха, показавшиеся ей несколько вольными. Альманах, вместо гравюр, приложил описание их, которые далеко превзошли все, что было вольного в гравюрах; но теперь дело устроилось, картинки возвращены брошюре, и брошюра осталась при гравюрах и при своих пояснениях гравюр! Успех книжонки Kappa породил множество других, в числе которых особенно замечательны «Nouvelles a la main»
(#c_223); успех «Альманаха» произвел огромную фамилию политических альманахов, под разными заглавиями: альманах владельцев, мастеровых, честных людей и проч. Все эти книжечки блистают за стеклами книгопродавцев, развернутые часто на самых жарких своих страницах, и филиппика таким образом против порядка вещей зароняется в душу проходящего невольно почти, навязывается насильно тому, кто не думал никогда покупать книжонки, и тем сильнее входит в грубый мозг, чем она дерзновеннее и поразительнее. Так вот-с как бьется жизнь в Париже в настоящую минуту.
Всю способность многоглаголания, мне врожденную, употребил я, чтоб уловить и передать вам удары пульса в этом Вавилоне: не знаю, успел ли! Я даже не хочу вам на этот раз писать о книгах, о лекциях в Сорбонне
(#c_224), о курсе Ройе-Коллара
(#c_225), о замечательных увражах[24 - Увражах (франц. ouvrage) – литературных произведениях, сочинениях.], что все бесспорно принадлежность, пояснение общества, но все как-то отвлеченнее, как-то дальше от настоящего парижского облика. В будущих письмах вмещу и эту статью, а до тех пор вот та последняя черта, которая должна, по моему мнению, уже непременно воссоздать полный образ новых Афин перед вами, подобно как в кабалистической
(#c_226) фигуре Нострадамуса
(#c_227) последняя черта выводила за собою тотчас бесика с рогами. Вот вам параграф о театрах.
Семнадцать – кроме концертов и панорам!
(#c_228) Семнадцать – каждый день!.. В долгое мое пребывание в Италии я совсем отстал от водевилей и комедий с куплетами, и вдруг целый поток их вылился мне на голову. Естественным следствием было чувство удивления и какая-то моральная лихорадка, если смею сказать. Я никак не мог привыкнуть ни к одному из театральных условий, производящих здесь комические сцены: кареты, которые увозят не того, кого надо, люди, которые прячутся в корзинку один за другим и не встречаются; женщины, переодевающиеся в мужчин, и которых не узнают даже родители их, между тем как зритель по некоторым наружным признакам тотчас смекает дело; мужчины, переодевающиеся в женщин, и которых другие мужчины целуют в губы, нимало не чувствуя бороды, весьма заметной из партера, и миллион других нелепостей, совершенно сбили меня с толку. Мне все казалось, что если поверить всем этим водевилям, которые вам придется еще разбирать и на русской сцене, то должно будет согласиться, что общество составилось не разумно, а наоборот, сочинено каким-нибудь веселым юнкером после доброй бутылочки. Теперь начинаю я ощущать необычайную радость, когда вижу на афише прибавку к заглавию пьесы: «шалость, пародия, charge[25 - Шарж (франц.).]». Ну, слава богу, думаю: хоть выведи мне полицейского, задумавшегося о первой любви своей, или ростовщика, плачущего на могиле своей матери, или какую хочешь нескладицу, – все будет хорошо: ведь это шалость! Да и парижане невольно чувствуют иногда потребность выйти из этого шабаша происшествий, характеров и мыслей, родившихся незаконно, как будто брокенские ведьмы и колдуны создали для потехи и в пику настоящему свету свет театральный. Чуть явится пьеса, мало-мальски похожая на человеческую, – как гром этой новости разносится по всем концам Парижа (иногда переходит Францию, достигает моря великого Балтийского и не дает заснуть покойно переделывателю Адмиралтейской части
(#c_229)). Со всех сторон стекается тогда Париж в счастливый театр, имеющий человеческую пьесу, и она выдерживает сто представлений сряду. Это случилось с комедией «La Grace de Dieu»
(#c_230). В эпоху разврата прибыла в Париж хорошенькая савоярка. Через несколько времени возвращается она домой, измученная, обманутая, полусумасшедшая. На душе горько сделалось мне, когда в конце пьесы, по неслыханному отсутствию всякого такта, авторы привели молодого герцога к ногам обманутой им савоярки и таким образом уничтожили весь смысл предыдущих актов. Однакож не должно смешивать нелепость французскую с тем, что мы понимаем под этим словом. Русские нелепости – вещь странная: волосы становятся дыбом; французская нелепость, напротив, полна остроумных намеков, идет живо, и допустите только возможность лжи, лежащей в основании, согласитесь на нее, – выводы и следствия часто весьма забавны, а иногда и искусно расположены. Притом же все эти нелепости имеют счастье быть обставлены талантами, из которых каждый отдельно мог бы составить славу целого театра, – как г-жа Аллан
(#c_231) например! Сколько тут оттенков в самых талантах: почти для всякой ноты есть человек, который особенно хорошо берет ее: роскошь! Странное дело! ни одного почти из знаменитых актеров не видел я в естественном, нормальном состоянии: все возвели силою таланта бедные свои роли почти до очевидности, до созвучия с жизнью и действительностью. М-llе Дежазе
(#c_232) (театра Palais-Royal
(#c_233)) видел я в красных штанах, в белом парике, и со всем тем, как верна она была характеру гризетки, возвратившейся поздно ночью из маскарада на чердак свой, несмотря на чудные случаи, приключившиеся с нею в эту ночь. М-llе Соваж
(#c_234) (театра Varietes
(#c_235)) видел я в роли дамы двора Людовика XV, влюбленную в мулата, освобожденного невольника, и со всем тем как чудно сквозь ледяную, пышную ее физиономию пробивалось истинное чувство! Арналя
(#c_236) (театра Vaudeville
(#c_237)) видел я в роли притворного слепого, перед которым падают покровы, а по-человечески сказать, раздеваются девушки, и ни разу не перешел он в цинизм, все его ужимки и последнее восклицание, открывшее обман, все это было верно. Одного только Буффе
(#c_238) (театра Gaite
(#c_239)) видел я на твердой земле, в пьесе, которая имеет первые черты характеров, «Gamin de Paris»
(#c_240), – да больше и не нужно. Исполнить эти первоначальные указания есть дело актера, и как полна вышла роль у Буффе! Переходы от комизма к драме, от смеха к слезе и снова к смеху, в котором, однакож, дрожит еще остаток сильного чувства, были превосходны. Не упоминая о mesdames Плесси
(#c_241), Анаис
(#c_242), Леменель
(#c_243), о гг. Гиацинте
(#c_244), Равасе
(#c_245), Левассоре
(#c_246) и проч. и проч., оставляя все это до будущих писем, я перейду к светилам первых величин – к классической трагедии и новейшей мелодраме, к театру, куда собираются пэры Франции, и куда ездит королевская фамилия (Theatre Francais)
(#c_247), и к театру, где собирается молодежь коллегий, воспитанники политехнической школы, да буржуа, жаждущие сильных потрясений (Theatre Porte Saint-Martin)
(#c_248), – перейду, одним словом, к пресловутой г-же Рашели
(#c_249) и не менее знаменитому г. Фредерику Леметру
(#c_250). Не подумайте, что Рашель мощью таланта претворила все длинные монологи в нечто живое и необходимое; не подумайте, что, в продолжение долгих и часто грозных повествований наперсницы или другого лица, все чувства сменяются постепенно на физиономии ее, так что мимическая игра актрисы поправляет все, что есть фальшивого в роли; не подумайте также, что, наконец, глубокое соображение, в соединении с вдохновением, побеждают все трудности, всю ложь классической трагедии и создают лицо возможное, великое, поэтическое (вещи, которые, говорят, делал Тальма
(#c_251)); не подумайте, сделайте одолжение, всего этого, – а вообразите высокую худощавую девушку, с черными, как смоль, волосами, которая декламирует стихи с особенным напевом, непохожим на старый вой, да непохожим и на действительную речь, и только в минуту сильного душевного порыва, особливо иронии, особливо негодования, ненависти или проклятия возвышается до высокого драматизма. Как-то судорожно сжимается лицо ее, слова бегут скоро-скоро (а сколько слов!), мерный стих дробится, поглощается, и часто конец монолога совсем пропадает, а вместо его видна только артистка в состоянии экстаза, с дрожащими губами и пламенеющим оком. Это хорошо! Жюль-Жанен вздумал было разрушить собственное свое дело
(#c_252), то есть колоссальную репутацию Рашели, и – не мог. Публика взяла сторону артистки: публике нравится новая ее декламация, ее вольности, ее порывы, даже несообразности ее, все ей нравится в счастливой дщери Исаака! Каким свистом покрыла она шутника, который в трагедии «Horace» Корнеля
(#c_253) вздумал было усмехнуться, услышав, что Куриаций говорит Горацию: «но твое рассуждение пахнет варварством», «tient de la barbarie», и та же публика хохотала до упаду в новой освистанной трагедии Вьенне «Арбогаст»
(#c_254), услыхав, что император Феодосии галантерейно говорит супруге зарезавшегося Арбогаста: «Не предлагаю вам утешений». А по-моему, я уже предпочитаю это последнее утешение тому первому варварству. Что касается до Леметра, то представьте довольно пожилого человека, который чудовищные свои роли играет весьма просто, не подготовляя зрителя к катастрофе и не разгорячая его ничем, в полной уверенности, что воображение гг. составителей мелодрамы постоит за себя. Это весьма умно. Выкинуть ли жену за окошко, как в «Ричарде Дарлингтоне»
(#c_255), отравить ли любовницу – плевое дело! Жена берется и выкидывается; нож в руки – и молодого путешественника как не бывало. Ужас достигается еще скорее этой простотой, беспечностью, так сказать, преступления, чем всеми возможными пояснениями актера; да и сколько раз случалось мне заметить в Петербурге, что слишком сильный талант портит мелодраму, думая поднять, возвысить ее. Та же метода у Леметра во все продолжение пьесы, при всех возможных толчках и во всех возможных положениях, какие только благоугодно было выдумать автору, и лучшего актера для этого рода сочинений вряд ли где можно найти. Мне остается только сказать вам о двух операх, итальянской и французской. О, когда в первой Тамбурини
(#c_256), Лаблаш
(#c_257) и г-жа Персиани
(#c_258) сольются в одном звуке и потом, разъединившись, после множества уклонений, разными путями приходят опять к прежнему своему пункту, это апофеоз итальянской оперы и вместе человеческого голоса! К несчастью моему, Рубини
(#c_259) в Мадриде, и мне недостает, как и Парижу, еще одного звука в этой удивительной группе. Французская опера страждет недостатком талантов; все певицы обветшали. Исполнение «Жидовки»