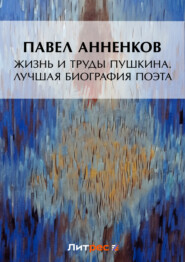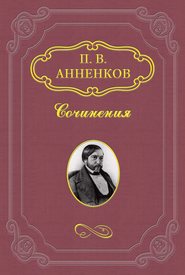По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма из-за границы
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(#c_139) мостовая, по которой идет духовная процессия, расчерчивается в прихотливые фигуры мелом: по ним сыплются разнородные цветы; в числе этих фигур есть гербы папы, кардиналов, львы, арабески, все из цветов. Мостовая вдруг покрыта великолепным ковром, который, уж без всякого сомнения, превышает все ковры в мире яркостью красок. Едва только минует процессия, как все это количество роз, маку, лилий смешивается и составляет какую-то мраморную груду. Где же это выдумается, скажите пожалуйста, кроме Рима? Буйные порывы римской черни, случающиеся очень часто и напоминающие времена итальянских республик средних веков, значительны еще тем, что это обыкновенно осуждение какого-нибудь преступления, не подлежащего законам. Так, когда принчипе Дорна
(#c_140), обольстил девушку обещанием жениться на ней и привел ее к смерти обманом и изменой, народ своротил погребальную процессию жертвы с настоящей дороги и заставил ее пройти мимо дворца принчипе, который после этого и уехал из Рима. Да и сам я был свидетелем, как жестоко был освистан гроб другого принчипе, Пиомбино
(#c_141), не любимого За скупость и который запер свою великолепную виллу Людовизи и не пускал никого смотреть знаменитые статуи и фрески. Освистали мертвого, освистали совершенно, хоть и полиция наверное знала, что Пиомбино будет освистан.
19-го июля выехал я из Рима в Неаполь, унося с собой воспоминание о всех древних чудесах его, мною весьма подробно осмотренных, из которых иные стоят под открытым небом, поросшие плющом, связываемые новыми полосами железа от времени до времени, или укрепленные колоссальной стеной, как Колизей, и эта стена есть сама по себе великий памятник; другие стоят в великолепных залах Ватикана. Что касается до Рафаэля и Микеланджело, то эти вечные граждане Рима как будто» и не умирали: имена их звучат поминутно, поминутно. Унес я также воспоминание и о патриархальной дешевизне, по случаю которой английские нищие играют здесь роли богачей; об остериях его, где после бутылки орвието, национального вина, похожего на шабли с игрой, да стуфаты, да макарон, да салату, да жареной курицы, призываете человека, а сей, посмеявшись над вашим аппетитом или над чем-нибудь иным и похлопав вас дружественно по бедру, говорит: «Quaranta baiocchi, саго signor Paolo». (Сорок байков, дорогой синьор Павел, то есть 2 рубля). Русские, английские и немецкие фамилии не произносятся, потому что раз уже у одного лопнула артерия от натуги и другие были несчастные случаи.
В Неаполе – о какая разница! – только 150 миль, почти 200 верст от Рима, и уже вы можете в сердцах или для практики поколотить своею палкой всякое досадное лицо из черни. Я приехал вечером, так что мог еще застать представление в Сан-Карло
(#c_142), потому что спектакли начинаются здесь в 9 часов вечера, когда уже надышится народ вечерним воздухом, который, действительно, после дневного зноя кажется бальзамом, освежающим всю внутренность. Сан-Карло – огромная, вызолоченная зала, совершенно без вкуса. Заплатив 2 р. 40 к. за место, я имел счастье видеть балет «Свадьба гардемарина», где переодетые в морских кадетов танцорки врываются в женский пансион, а потом делают разные воинские эволюции. Танцорки обязаны здесь быть непременно в зеленых костюмах: это такая отвратительная вещь, что описать нельзя: какое-то соединение женщины и лягушки, – и это после строгого, величественного Рима! Впечатление даже болезненно… Я пришел в трактир свой, где потом разломали у меня замок и украли 300 рублей, и камердинер на лестнице спросил с улыбкой: «А не укради ли у вас платок?» Я пощупал карман: платок украли. И таков был первый мой вечер в Неаполе. Но на другой день (я жил на берегу моря, платя за очень хорошую комнату 2 рубля в день) я отворил окно: что за чудная картина открылась глазам моим! Трудно дать понятие о сладострастии, роскошных линиях, неге Неаполитанского залива и других, соседственных ему. Известно, что Неаполь был местом загородных домов римлян. Сюда приезжали они наслаждаться, проживать миллионы, проживать здоровье и жизнь, а некоторые и империю. Имена Лукуллов
(#c_143), Тивериев
(#c_144), Неронов существуют до сих пор на берегах этих, и кажется, несмотря на все перевороты религиозные и политические, можно найти здесь, хотя в умаленных размерах, все то, чего они искали. Какими чудными, голубыми волнами заливает море все эти широкие, утешающие глаз полукруги, которые образуют заливы Неаполитанский, Салернский и Пуцольский! Жемчужны, почти прозрачны, кажутся эти горы с своими виноградниками, которых лозы плетутся по стенам и воротам вилл и спадают вниз фестонами. Какой лучезарный цвет отдаление сообщает всем этим островам: Прочиде, Искии, Капри! А между тем куда бы вы ни поехали из окрестностей Неаполя, всегда виден и точно поворачивается вокруг вас двухвершинный Везувий, выпускающий из себя постоянно легкую струю дыма. Само искусство здесь, служа страстям, приняло такое чувственное направление, что королевский музеум в этом отношении есть Капуя скульптуры
(#c_145): это все Венеры, любующиеся на самих себя; это фавны и нимфы, перевившиеся руками; это Тиверий с любовницей на коне и проч. Помпея доставила и доставляет те роскошные фрески, которые древние имели в своих спальнях, и, право, никакой в мире балет не произведет на вас такого действия, как королевский Неаполитанский музей. Теперь мне, однакож, приходит в голову, что живописность предмета и его внутреннее достоинство – две совершенно различные вещи. Какое значение может иметь, например, для путешественника, хоть их очень много здесь, Неаполь с низким своим народонаселением, которое живет для лицемерства, мелкого воровства и не имеет даже характера, чтоб быть хорошим вором? Что вынесет он из этого шумного города, даже когда будут отворены ему ворота тех огромных домов с бесчисленными балконами (дворцами их нельзя назвать из опасения обидеть римские и здешние флорентийские дворцы), в которых живут люди, поджидающие вечера, чтоб великолепным экипажем прибавить шуму и давки в Villa reale? С каким нетерпением ожидали здесь парад войск, так я удивился. А уже это пошлое равнодушие ко всему, что делается на белом свете и вокруг их, это сонное состояние, в котором и народ, и высшие окостенели, это даже меня придавило. Я ничего не видал подобного во всю дорогу… Самое жалкое впечатление производит здешняя литература. Существует здесь пошлая и пустая политическая газета и называется «Газета Обеих Сицилии», да еще ежемесячное «Обозрение»
(#c_146), тоненькое, как ломтик хлебца, что в дурных пансионах подают на завтрак детям. Я вспомнил об «Отечественных записках», и они мне показались в сравнении с ними Изидой… В этом «Обозрении» первая статья была анекдоты из жизни Шиллера, потом ботаническая какая-то, потом критика стихотворений одного импровизатора, сделавшегося печатным поэтом. Я считаю весьма дурным признаком для литературы появление так называемых снисходительных критик, которые обыкновенно доказывают посредственность и произведения, и рецензента, но эта вряд ли не превзошла все в этом роде критики, написанные Олиным, Измайловым и проч.
(#c_147) Тут вынимает он четыре стиха и прибавляет: «Нельзя лучше и вернее изобразить» и проч.; или выпишет пять стихов и прибавит: «Как хорошо последнее слово выражает мгновенное…» и проч. За критикой – библиография: две брошюрки стихов, роман в двух томах, потом статья о театрах и аминь. Да уж добро – и этого не читают. Что же остается делать? А вот: описать восхождение на Везувий – этим Неаполь уже подарил не одну тысячу путешественников. Пожалуй, и я не прочь от них. Был на Везувии, едва не задохся от усталости на последнем всходе; слышал, как он переваривал что-то и шипел под ногами; видел, как выкидывал массы дыма и огня; в одном месте, где поток подошел к самой почве, кора земли треснула, и я туда клал палку, и палка загорелась! Или… не хотите ли описания поездки в Сорренто, где дом сестры Тасса обращен теперь в гостиницу? Или хотите, может быть, описания поездки в лазуревый грот Капри? Или желаете, статься может, описания прогулки в Байю, где были Нероновы бани? Но я столько читал описаний всего этого, что рука не поднимается. Еще не совсем пошло могло быть описание Помпеи, с ее домами, дворцами, улицами, театрами, лавками, публичными местами, где так удивительно связывается настоящая минута, вам принадлежащая, с тою, когда город погиб; но я устал и тороплюсь дать вам какое-нибудь понятие о Палермо и Мессине. Скажу только, что пестро и празднично являются все эти стены, покрытые фресками, ярко горят на солнце все эти колонны, и вам кажется, что вы пришли не в умерший город, а в гости или на праздник в город, которого жители где-нибудь на площади, в амфитеатре или форуме. Так до сих пор сохраняет он отличительную черту всех неаполитанских окрестностей.
Палермо был для меня все равно, что страница из «Тысячи одной ночи». Сохранились еще дворцы арабские (дворец Зора), сохранились еще в монастырях эти галереи с грациозными сводами, легкими колоннами, фантастическими капителиями и фонтанами посреди (церковь и монастырь Монте-Реале). И все тут поощряет воображение к разным, может быть, пустым сближениям: террасы на домах и даже на фронтонах церквей, длинные, чреватые балконы в верхних этажах домов, закрытые железными решетками со всех сторон, пестрота мозаик, блистающих на наружных стенах строений, чудовищность воображения, проявляющегося там и сям и так подходящая к духу арабской сказки: то капуцины ставят в подземелий высушенные тела умерших, то владелец дачи украшает ее изображением чудовищ или обращает в кукольный монастырь траппистов
(#c_148), или как в даче… (фамилию забыл), отворяете беседку, и восковой кармелит
(#c_149) подымается и благославляет вас (разгул воображения у народа, проявившийся в этой неслыханно колоссальной колеснице св. Розалии
(#c_150), возимой быками по городу); далее кафедрал города, частью мавританской архитектуры, к которому так некстати приделали купол и лишили его родовой физиономии; наконец, это ощутительное напоминовение бедуинской жизни в недостатке воды и страшном действии солнца, пожигающего травы и цветы… (О, что за жары были нынче в августе! Буквально жарко ногам от прикосновения к мостовой, глаза получают воспаление, тяжело в груди.) Наконец, еще трепет сказочной, романической жизни в этом городе и народе, который в нашем веке знает употребление кинжала
(#c_151), сохраняет обычай отмщения, и где находят на улице раненых, которые на вопросы друзей и юстиции отвечают: «Это наше дело». Все это вместе взятое (хотя при окончании ужасного сего периода, коим хочу отделаться от вас, совершенно я забыл начало его), делает для воображения присутствие халифов востока и сказки его почти осязательными в Палермо.
Мессина – новый город, выстроенный после землетрясения, и как новый город, не имеет яркой физиономии, подобно Палермо. Сцилла и Харибда
(#c_152) его – эти лающие собаки древних – состарились, и водовороты их можно видеть только в известный час дня, когда образуются противоположные течения, да в бурю. Черткова «Путешествие по Сицилии»
(#c_153) очень хорошо, верно и дельно. Жаль одного: все он упрекает ее Англией и представляет ее в пример, как должно работать и извлекать выгоду из своего положения. Эти сожаления, что Сицилия не Великобритания, несколько тщетны. Уж господь бог затем и создал Сицилию, чтоб она была Сицилией!
Теперь живу я во Флоренции, проехав Пизу, Лукку, Пистою и Прато, весь этот цветник, весь этот фруктовый сад, который называется дорогой от Ливорно во Флоренцию и пересекается через каждые 15 миль столицею. Иначе я не могу назвать эти города, наполненные дворцами, соборами, памятниками эпохи Возрождения, за которыми следить такое наслаждение. Народонаселение честное, трудящееся, скопидомка и сладко говорящее тосканским мягким, горловым наречием. К 15-му сентября ожидают съезда ученых итальянских и других во Флоренции
(#c_154). К этому времени готовятся праздники, фейерверки. И герцог, и народ считают эти съезды происшествиями, достойными торжеств. На счет итальянских ученых существует, благодаря французам, в России какое-то смутное и неблагоприятное мнение; но здесь я должен сказать вам великую истину. Как только итальянец вышел из толпы, отделился от массы, то уж не верьте решительно всем разглагольствованиям о лености, неге, фарниенте итальянском: он делается трудолюбив, постоянен, упорен и эрудичен, как дай бог немцу. Труды Тирабоски
(#c_155), Ланци
(#c_156) и проч. – лучшее этому доказательство.
Отсюда еду в Милан; оттуда через Швейцарию в Париж. В Россию буду скоро: может через год, а уж много, много через два…
VII
Женева. 26 октября 1841 года.
Не знаю, с чего начать продолжение описания бродяжничества моего. Помнится, в последнем письме остановился я на Флоренции. Долго надо бы говорить об этой земле, чтоб объяснить, почему Альфиери
(#c_157), проклявший в удивительных сонетах, которые гораздо лучше трагедий его, Рим, Пизу, Геную, приехал умирать во Флоренцию
(#c_158), и как это случилось, что во Флоренции давно уже существует публичное судопроизводство, между тем как только в 1842 году заводят его в Пруссии, и отчего, окруженная соседями с самым строгим острацизмом
(#c_159) в отношении печати, она одна дозволила свободный выпуск всех иностранных журналов, и по какому убеждению в нынешний съезд ученых отдала она все свои дворцы в их распоряжение, и как это делается, что в самом сердце Италии народ трудится, работает и живет в тишине, не сдерживаемый ничем, кроме сознания своего благополучия… Это решительно итальянская Германия: даже в физиономии женщин, в их особенной полноте, голубых глазах и скромном, домашнем благочинном сластолюбии (не знаю, как выразить этот род сластолюбия) есть что-то немецкое. Благославив Флоренцию и пожалев, что в качестве земли, не имеющей никакого влияния на человечество (человечеству, собственно, и нет дела, счастлива она или несчастлива), выехал я в Болонью, с которой пять месяцев тому назад начал мое путешествие по Италии. Все та же она: также пуста, грустна и меланхолична; ничего с нею не произошло, но со мною произошло многое. Господи боже! Сколько в эти пять месяцев проехал я языков, дорог, морей! Я остановился в том же самом трактире, в той же самой комнате, и вечером, отворив окно, припомнил весь интервал!.. Вспомнилось мне также, что я приступал к этому подвигу, совершаемому англичанами в виде моциона для возбуждения деятельности желудка, с некоторым родом торжественности и робости… Но буди им вечная память! Я теперь, как лорд Байрон, знаю почти все простонародные проклятия итальянцев: Corpo di Bacco! и проч. и проч. С Болоньи началось мое торжественное шествие на Милан, роздыхами коему служили Модена, Парма и Пьяченца – три столицы, встречающиеся на пространстве немного поменее 250 верст. Вам не безызвестно, что Модена есть Парагвай всей Италии. Самыми сильными средствами прервано всякое сообщение мысли с Европою
(#c_160). А между тем только голубые Аппенины, только роскошные поля, разлегшиеся у подошвы их, отделяют Модену от Флоренции!.. Супруги Наполеоновой не было в Парме
(#c_161), когда я прибыл туда; а хотелось бы мне взглянуть на нее. Взамен этого в Парме были фреска Корреджио и удивительная его картина, известная под именем «Св. Иеронима». С самого Рима не испытывал я впечатления более сильного. Вся эта сцена ангела с развернутой книгой, Христа-младенца, простирающего к ней руки, божьей матери, смотрящей с улыбкой на движения его, Магдалины, с величайшим благоговением целующей его ногу, – вся эта сцена, оттененная суровою фигурой Иеронима, полна небесной прелести, благоуханна невыразимо. В том же роде и другая его картина: «Madonna delia Scodella». Я никак не понимаю, почему немецкая партия, старающаяся возвратить живопись к строгому христианскому началу
(#c_162), исключает этот элемент райской прелести, родившейся тоже из самого глубокого религиозного чувства.
Тороплюсь рассказать вам мое знакомство и целую неделю дружбы с миланским журналистом, издателем театральной газеты «Пират»
(#c_163), господином Регли
(#c_164), получающим подарки от Доницетти, Тальони и от всех певцов и певиц, проезжающих через Милан. Он, вот изволите видеть, совсем не так желчен, как иные прочие. На мое замечание о пошлости итальянской журналистики и о путанице этих мягких фраз в разборах и отчетах, которые словно занавеска, колеблемая ветром у окна, и открывают внутренность комнаты и не открывают, он объявил мне, что это дело условное, что это вещь, непонятная для иностранца, но что есть похвальные фразы, выражающие осуждение! Пуф! Так, например, сказать: «опера вообще нравится» значит сказать, что опера никуда не годится, да и сам он, Регли, имел историю с любителем танцовщицы, про которую откровенно сказал, что она заслуживает внимания. Можете теперь представить, сколько надо употребить восторга и энтузиазма при разборе вещи действительно достойной похвалы. С какою наивностью показывал он мне посвящение своего театрального альманаха графине Самойловой
(#c_165), в котором называет ее знатоком, покровителем изящных искусств в его отечестве и проч., за что и получил 600 франков! Наконец, он повел меня обедать к молодому композитору, для которого сам сочиняет либретто, и я имел счастье присутствовать при самом процессе создания итальянской оперы. После обеда, за чашкой кофе, подошел он к письменному столу, взял перо и набросал в одну минуту четыре строфы романса, где cuor[19 - Двор, свита (итал.).] и amor[20 - Любовь (итал.).] звучали сильно; композитор пододвинул стул к фортепьянам и стучал по ним до тех пор, пока выстукал мотив; мы, разумеется, пришли в неописанный восторг, а композитор, потирая руки, сказал: «Да, с хорошею певицей, и если разработать его хорошенько, он сделает свое дело». И вот, может быть, через год и на петербургской сцене мотив этот будет делать свое дело при всеобщих рукоплесканиях. Я удивился в Милане бедности исторических памятников, которыми так щедро наделены итальянские города, да и вообще, если исключить бездну кофейных домов, способствующих – не скажу публичной, чтоб не обидеть Афины и древний Рим, но наружной жизни, какую обыкновенно ведут итальянцы, то в этом городе с большими домами без стиля и чистыми улицами нет уже ничего итальянского.
Собор удивителен
(#c_166). Кто-то сказал, что на крыше его он очутился в лесу колонн и спицов, и этой гиперболе так посчастливилось, что она обошла весь свет, что я встречался с нею всякий раз, как заходил разговор о соборе, и что она мне очень надоела. Для перемены предлагаю следующую, которую всякий учитель может употребить для назидания слушателей с кафедры: миланский собор с первого раза кажется лопнувшим бураком фейерверка, который выкинул в небо сотни звезд с огненными хвостами, и т. д. Особенно замечательно в этом соборе, что он был последним усилием готизма в Европе, и поэтому уж не найдете вы в нем фантастических барельефов, узоров, высеченных в камне, за которыми трудно следить глазу, всего того, что в германском готизме и в некоторых старых церквах Италии поражает разгулом, прихотью воображения. Все в нем правильно, чисто и симметрично. Это – классицизм готизма, если можно так сказать. «Путеводитель» мой говорит, что собор начат в 1386 году, то есть, именно, когда вся Европа кинулась в древность. Вот почему он несколько холоден и имеет весьма фальшивую ноту в общей гармонии, а именно – купол, столь несвойственный готизму, хотя снаружи он и прикрыт чем-то в роде готической беседки. Тяжело было, думаю, архитекторам строить собор этот между двух верований, двух противоположных мыслей, двух метод, исключавших одна другую! Что касается до огромной залы театра delia Scalla
(#c_167), за вход в которую платится 2 рубля 50 коп., то она, с золотыми украшениями своими по (белому, не так безвкусна и аляповата, как зала Сан-Карло, но выстроена Только для Каталани
(#c_168), Пасты
(#c_169) и проч. Все, что не Каталани, не Зонтгаг
(#c_170) и прочее, погибает, задушается этим пространством, и усилия плохой певицы, которую я слышал, наполнить его походили, право, на предсмертные страдания человека с сильным телосложением. Судороги, крики, и потом тишина и ослабление: все было.
Наконец, из Милана приехал я в Геную: кинуть последний прощальный взор на Средиземное море, по которому, буквально сказать, так много колесил я на пароходах, да взглянуть на знамениты дворцы ее. В Генуе совсем неожиданно приснился мне как раз – как думаете кто? Приятель мой, декоративный живописец! В коричневом сюртуке стоял он передо мною, и я будто бы упрекал его горькими словами: «Как это вам не стыдно жить бог знает где, когда вот здесь в улице Гальби есть пустой дворец Дураццо? И что вы это там рисуете? Какие вы там созидаете на полотне клетушки с окнами, какие лепите сбоку лесенки? Что за террасы вы там мажете, которые никуда не выходят, а если и выходят, то словно говорят: да что тут смотреть; ничего нет любопытного.
Да и сады ваши годятся только для прогулки немке, которой прискучило окошечко с деревянным балконцем и двумя горшочками цветов на нем. Да и осмелились ли вы когда-нибудь пустить воду так, чтоб не она походила на дождевую лужицу, скопившуюся в углублении? Переезжайте сюда, сударь. Здесь есть из камня, из мрамора, из гранита в полной своей действительности лестницы великолепнее ваших храмов, переходы, галереи, террасы, подобных коим не начертали еще мелом на полотне ни вы, ни учителя ваши, Мезонески
(#c_171) и Роллер
(#c_172); сады, балконы, залы, от которых закружится у вас голова и, вероятно, воскликните вы: это уж слишком; нам этого нельзя! Счастлив будет тот день и много я порадуюсь, когда воображение ваше достигнет до величия одной из мраморных передних здешних.» И отвечал мне мой приятель: «Ох, боже мой! Что вы говорите? Вы не понимаете… Уж нынче это принято у нас, чтоб лестницы вели на стену, в кабинетах стояли огромные колонны, на галереях чтоб не было видно и кошки, крыши украшались куполами, и в садах стояли лукзорские обелиски. Это для эффекта: вы не понимаете…» Тут я и проснулся. Прощай, Средиземное море; прощай, Италия! Отсюда переезжаю я в Женеву, снова на почву политических, исторических, философических вопросов и всяческого треволнения, и при сем случае не могу не возблагодарить Италии за множество тихих, но самых полных наслаждений. Будь я поэт, непременно написал бы прощание с Италией…
Вот я и в Женеве. И чтоб новая строка начиналась торжественнее, вот вам положение: Швейцария находится в сию минуту в каком-то судорожном состоянии
(#c_173)… Я уже вижу отсюда, как вы испугались, какой ужас объял вас… Успокойтесь! Не можете себе представить, как находящиеся в судорожном состоянии швейцарцы славно едят здесь, как набиты ими все кафехаузы[21 - Кафехауз (от нем. Kaffeechaus) – кафе.], какая музыка на озере, прогулки по восхитительным берегам его, пикеты
(#c_174) и экарте